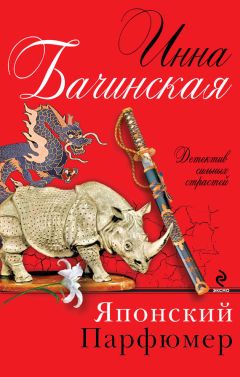Константин Федотович, всматривался в каменных солдат. Сквозь сетку дождя угловатые резкие черты смягчились, как бы ожили. Крайний слева с намертво спаянными челюстями, упрямым, почти злым выражением лица кого-то напоминал. Константин Федотович не сразу понял — Лубенцова. Будто Вадим надел каску, встал в строй солдат и теперь глядел оттуда, издалека, пристально и сурово. У солдата рядом с Лубенцовым было, что-то схожее с мичманом Кинякиным, а вон тот — вылитый Колосков, и даже кажется, что каменный ворот шинели трет ему тонкую неокрепшую шею...
— Здравствуй, Лубенцов! — тихо сказал Константин Федотович. — Здравствуй, Колосок! Здравия желаю, товарищ мичман! Я жив. Я помню вас, ребята, и всегда буду помнить, родные мои...
Оркестр гремел наперекор дождю:
Это праздник, это счастье с сединою на висках...
Коротконогий дирижер стал стройнее, даже величественнее. Он самозабвенно взмахивал руками, не замечая, что идет дождь, что по лицу стекают капли, будто слезы. А может, это слезы и были? На груди дирижера мокро блестели медали.
Этот день мы приближали как могли...
Молодые музыканты, сдвинув брови, не сводили глаз с вдохновенного лица дирижера, выдували из труб мощные набатные звуки вслед уходящим людям, и шаг людей стал короче, они оглядывались, кое-кто в нерешительности остановился. Было что-то возвышенное и гордое в звуках оркестра, который наперекор хлещущему дождю гремел литаврами, звал к себе, требовал, приказывал. И люди подчинились властной силе и красоте.
Начавшая было редеть толпа вновь стала густой. Приостановилось и начальство, недоуменно, даже с досадой поглядывая на дирижера. А лейтенант, было подскочивший к дирижеру и что-то сказавший ему, вдруг отступил как ошпаренный, и остался вместе со всеми.
Константин Федотович вдруг заметил мальчика лет десяти. Он стоял по ту сторону Вечного огня и, не моргая, широко раскрыв глаза, смотрел на пламя.
Лицо его плавилось, изменялось в горячем подвижном токе воздуха, то проясняясь сквозь прозрачно-дымные языки, то скрываясь в оранжевом мареве. Мальчик напряженно смотрел на огонь, хотел что-то понять, что-то постичь, осмыслить, и лицо его, то исчезающее, то возникающее сквозь колеблющееся пламя, становилось или по-взрослому суровым, или детски-беззащитным.
Из потемневшей от дождя стены выступали бетонные лица солдат. Пелена воды размыла, смягчила резкие грани, и казалось, ожившие солдаты идут и идут из дальней дали, из пороховых лет, из дождя, из дыма, из огня... Идут на призыв литавр, идут навстречу с живыми.
Что-то единое, нерасторжимо-могучее охватило людей: и этого мальчика, и эту старушку, и Константина Федотовича, и лейтенанта, и дирижера, и оркестр, и притихшую стайку девчат.
Мокрые люди стояли перед бетонной стелой, каменные солдаты и живые смотрели друг на друга — глаза в глаза.
А оркестр все гремел и гремел, рвал душу:
День Победы, День Победы, День Побе-еды!..
ЧУТКОСТЬ К ПРАВДЕ
В одном из рассказов Анатолия Соболева старый хирург, спустя тридцать лет после войны, вспоминает, как он, сам не ведая того, оперировал в санбате тяжело раненного сына (лицо которого было закрыто простыней), показывает сохраненный комочек свинца, который он извлек из легкого. При этом отец говорит:
«Вот я все думал... пуля эта убила бы с ним и меня, и Лелю, и детей его, хотя их и на свете не было еще... Не было бы их, детей его. А от них еще дети пойдут. Он вертит пулю в пальцах.
— Вот этот комочек убил бы весь наш род, на все поколения вперед. Понимаешь! Весь род! С лица земли бы бы свел. А?!»
Эта мысль старого хирурга поражает его собеседника. Да и читателя. Почему? Да потому, что эти слова о пуле — не праздный вымысел, а то действительное потрясение, которое человек на всю жизнь вынес из войны. И оттого эта подробность действует на нас убедительнее всяких громких, обличающих войну, слов. Литература и сильна этой подлинностью пережитого, которая обычно становится психологическим током повествования и без которой оно обречено на безжизненность, рассудочность. Автор повести «Награде не подлежит» был в годы войны водолазом Северного флота, начав еще совсем юным эту смертельно опасную службу, равную каждый раз подвигу: он должен был находить на дне моря, обследовать, поднимать затопленные катера, баржи, затонувшие орудия, танки, машины, и, самое страшное — невзорвавшиеся бомбы, торпеды, мины. Каждое погружение в глубину моря могло быть последним в жизни юноши. Так и было со многими его товарищами. Анатолий Соболев, к счастью, остался жив и все пережитое стало его судьбой, жизненной и литературной. Именно потому, что он сам, по его собственным, словам, «...под водою провел несколько месяцев, если собрать воедино все часы водолазных работ», испытал на себе всю их тяжесть, в любую минуту мог столкнуться с непоправимым, не миновать и самого жуткого, что может настигнуть водолаза — кессонки, — именно поэтому так правдиво, с заразительным драматизмом пишет автор о своих героях — водолазах, об их мужественных делах. Вот в начале же повести молодой герой Костя Реутов получает задание найти и застропить невзорвавшуюся торпеду. И читатель видит, как это было, — через захватывающие подробности. Отделенного от всего мира Костю, камнем летящего в скафандре вниз, на дно; его же, Костю, оказавшегося там, на дне, будто внутри стеклянного шара с видимостью в два метра, дальше — плотная мгла; подсасывающий в груди холодок от ожидаемой на каждом отрезке пути опасности; мутное тело чудовища — ту самую торпеду, неправдоподобно огромную в воде; парализующий движение страх оттого, что торпеда со своей «злобной затаенностью» может «шарахнуть» при первом же прикосновении к ней («бывали такие случаи»); как вечность длящееся время, пока, наконец, он не застропил торпеду, вскоре исчезнувшую в размытой мгле, и не почувствовал, как «бесконечно устал и мелкой дрожью трясется каждая жилка тела». А потом случилось то, чего больше всего боялся Костя — кессонка, пронзившая его уже наверху, на борту, дикой болью «от паха до самых кончиков пальцев на ногах», от которой он «то терял сознание, погружаясь в красную зыбкую тьму», то «выныривал» из нее, испытывая невыносимые мучения.
Война давно прошла, все меньше остается в живых ее участников и очевидцев, в литературу входят новые, молодые авторы, которые пишут о войне, в лучшем случае, по рассказам или воспоминаниям фронтовиков, а то и попусту сочиняя ее, иногда в опереточном духе. А читателю нужна правда о войне, последствия которой до сих пор дают о себе знать почти в каждой семье. И вот, читая повесть Анатолия Соболева, мы переносимся в то грозное время, с его особой неповторимой психологической атмосферой, со взаимоотношениями людей, где все резче и глубже, чем в обыденной жизни, со страданиями и мечтами, никогда и ничем не истребимыми. Достоверностью времени отмечено все в повествовании: и водолазная служба прерываемая налетом вражеских «юнкерсов»; и разговоры раненых в госпитале, каменное отчаяние одних и надежды других; даже сама любовь Кости к Любе, чистота его первого чувства. Эта любовная история могла бы показаться слишком растянутой, беллетристической, если бы не искренность, не удивительная черта в характере молодой женщины, которая и любит, и по-матерински жалеет Костю. Чуткость автора к правде проявилась и в том, что он не закончил повесть счастливой любовью. Костю второй раз сражает кессонка, на этот раз по вине командира-головотяпа, и он навсегда обречен на одиночество. В этом есть своя жестокая логика. Реутов — из того молодого поколения, которое почти цели погибло в войну. И в повести мало кто остается в живых из товарищей Кости: уже после войны, при подъеме подводной лодки, Лубенцову отрубило понтоном шланг-сигнал и он задохнулся на глубине; подорвался мичман Кинякин, вытаскивая со дна авиационную бомбу. И как несправедливо умаление подвига этих людей, возмутительно равнодушие к немногим уцелевшим из них, вроде того формализма, с каким военком в повести решает, что ветеран войны Реутов «награде не подлежит».
Это повесть не просто о водолазах (как обычно говорят, что эта повесть о металлургах, а эта — о строителях, рыбаках, взрывниках и т. д.), хотя здесь и превосходно показана технология водолазного дела. Но водолазная служба, все связанное с нею только проявляет, драматизирует положение героя как представителя своего поколения. И этим книга вносит свою долю в нашу литературу о войне.
МИХАИЛ ЛОБАНОВ
Выброска — тонкий пеньковый канатик.
Брас — пеньковый конец, удерживающий на водолазе груза.