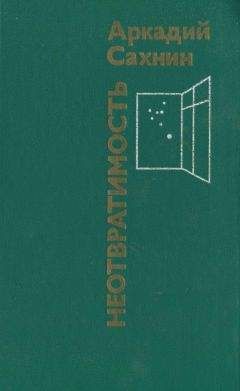— Вот сволочь! — выругался Костя.
— Закрой, мне влетит.
— Подожди, — отмахнулся он.
«Прошу без выкриков» — Костя узнал голос Германа Трофимовича. Вера встала и закрыла дверь.
— Влетит мне, понимаешь?
— Ты можешь зайти туда?
— Только если позовут.
После длинной реплики Дремова поднялся Андреев.
— Нельзя же все валить в кучу. Он разоблачал проходимцев, они и жаловались на него, клеветали. Ведь ни одна жалоба не подтвердилась.
— Какая же аналогия! — вскочил Калюжный. — Не проходимец жалуется, а Гулыга, которого прославил сам Крылов. За это, что ли, он клевещет? Где логика? Нонсенс!
— Потому что подлец! — выпалил Крылов.
И сразу несколько голосов:
— Вы же писали, что он герой!
— Скажу честно, — продолжал Андреев, — мне лично не верится, что Крылов на все это способен. Вдумайтесь: станет ли он в угоду Зарудной толкать людей на лжесвидетельства?
— Так почему они жалуются? Почему пишут? Они же не о себе хлопочут, им-то ничего плохого Крылов не сделал.
Андреев, никак не отреагировав на реплики, продолжал:
— Ничего зазорного не вижу и в том, что корреспондент воспользовался машиной директора.
— Чтобы поехать на квартиру к женщине, а шофер пусть ждет, пока они там будут развлекаться! — съязвил Калюжный.
— Клевета! — стукнул кулаком но столу Крылов.
— Товарищ Крылов! — повысил голос редактор. — И вы, товарищ Калюжный! Невозможно так работать!..
— Вы кончили, Василий Андреевич?
Андреев хотел еще что-то сказать, но махнул рукой и сел.
— Разрешите все-таки мне, — поднялся Калюжный.
— Вы уже два раза выступали и десять реплик подали. Что еще? — не пряча недовольства, отрезал редактор.
Калюжный не смутился.
— Еще вопросы. Только вопросы. — Он продолжал подчеркнуто мягко: — Были ли вы, Сергей Александрович, ранее знакомы с людьми, которые пригласили вас в Мюнхен, с людьми, проживающими в Баварии, то есть в центре западногерманского неофашизма?
Крылов ответил резко, зло:
— Нет, не был и сейчас не знаю их! Но…
— Нет, нет, не надо комментировать, — прервал Калюжный. — Только «да» или «нет». Ответ меня удовлетворяет, прошу занести в протокол. Еще вопрос. — Такой же мягкий, бесстрастный тон. — Это правда, Сергей Александрович, что вы установили контакты и встречались с фашистским преступником Бергером? И консультировались ли вы по этому поводу с советским посольством?
— Но это же придирка, случайно встретились… — подал кто-то реплику.
— Нет, не случайно! — повысил голос Крылов. — Я сам искал с ним встречи.
— Бо-олван! — обернулся к нему убеленный сединой сосед.
— Все у вас? — нетерпеливо спросил Герман Трофимович.
— Последний вопрос. Последний. — Голос уже не просто мягкий — елейный. — Это правда, Сергей Александрович, вы признаете, что пили вместе с ним, пожимали его руку, обагренную кровью сотен советских людей.
По кабинету прокатился неодобрительный гул.
— Да, пил! — в ярости закричал Крылов. — И к бабам вместе ходили и в игорный дом, и мои руки тоже в крови! — Он уже задыхался. — Что еще?! Валяйте! Мирбаха убил, рейхстаг поджег! Довольны?!
Поднялся невообразимый шум. Со всех сторон понеслись реплики:
— Сумасшедший!
— Чего он добивается?
Костя ходил по приемной — взад-вперед, взад-вперед.
— Они его заклюют!
— Не думаю, — преградила ему дорогу Верочка. — Не в первый раз.
— Такое в первый раз.
Они стояли у дверей, прислушиваясь. И вдруг наступила тишина, в которой зазвучал голос поднявшегося Скворцова.
— Все противоестественно, товарищи, — начал Юрий Андреевич. — И эта истерика у Крылова, и то, что сегодня мы должны говорить о его поведении. Это один из лучших, надежнейших наших людей. И редколлегия и мы в парткоме всегда могли на него положиться. Мы не можем сбросить со счетов его многолетнюю безупречную работу, ее можем не считаться с его авторитетом в коллективе.
— Начинается, — обернулся Калюжный к соседу.
Но Скворцов услышал.
— Да, начинается, товарищ Калюжный. Начинается объективный разбор и прекращается демагогия. Мы не можем исходить из наскоков товарищей Калюжного и Дремова, как и из того, что в запальчивости наговорил здесь Крылов. Факты, приведенные в письмах, требуют самой тщательной проверки, и я не понимаю, почему мы сейчас начали обсуждение. Похоже, нас охватила, к сожалению, кое-где бытующая растерянность, даже страх перед жалобой, пасквилем, анонимкой, Главный довод товарища Калюжного: пишут же! — под которым подразумевается: нет дыма без огня. Но бывает огонь без дыма и целые дымовые завесы без огня. Да, пишут. Пишут на многих, кто разоблачает зло. Но не рано ли только на этом основании без должной проверки обвинять человека чуть ли не в политических преступлениях? Вспомните, скольких людей за последние годы редакции пришлось защищать от облыжных обвинений, наветов, клеветы. Что же нам, пугаться писем, поднимать крик, уподобляясь паникеру в бою? А товарищ Калюжный с ходу дал бешеные обороты, за ним не глядя устремился товарищ Дремов, готовы включиться в эту гонку да и некоторые другие товарищи. Погодите, друзья. Остыньте, задумайтесь, покарать успеем. Ведь мы же люди. Давайте сначала разберемся, почему пишут. Действительно ли ими руководят высокие нравственные начала или нечто иное.
Негромкий голос Скворцова действовал отрезвляюще.
— К сожалению, некоторые ошибки, в том числе морально-этического характера, товарищ Крылов допустил бесспорно. Имею в виду прежде всего историю с зажигалкой, хотя в письме Гулыги история эта столь же бесспорно подается в искаженном виде…
— Позвольте, — прервал его Калюжный, — вы призываете нас все проверять, а сами авансом, без проверки обвиняете товарища Гулыгу в преднамеренных искажениях.
— Благодарю за поправку, Петр Федорович, — без тонн иронии заметил Скворцов. — Я не сказал «преднамеренных», но принимаю такую формулировку, именно преднамеренных искажений. Утверждаю это, ибо сей грустный факт установил точно и в надлежащее время приведу доказательства.
Калюжный смолчал, и, выждав немного, Скворцов продолжал:
— Крылов да и другие наши товарищи не раз встречались на Западе с фашистским охвостьем. Однако каждый раз с ведома или по поручению редакции. На этот раз подобного задания не было. Но товарищ Крылов не мальчик, не начинающий репортер. Мог на подобную встречу идти и по личной инициативе, под свою собственную ответственность. И нам надо выяснить, вызвана ли эта встреча необходимостью узнать, чем он руководствовался. Все это предстоит проверить, установить и только после этого судить человека. Надеюсь, товарищи, моя точка зрения ясна. Это не просто моя точка зрения, это элементарная норма поведения, норма нашей жизни…
Костя присел у двери — прижал ухо к замочной скважине. Услышав эти слова, резко поднялся, в упор посмотрел на Верочку.
— Прошу тебя, передай ему. — Вытащил из кармана несколько писем. — Они могут спасти его.
Вера решительно отстранила их.
— Тогда вот, — извлек он пропуск на Московскую Олимпиаду. — В Лужники, в Крылатское, в Олимпийскую деревню — куда хочешь пойдешь.
— Что ты меня за дурочку принимаешь? — обиделась Верочка. — Он же именной, с твоей фотографией…
Костя не смутился.
— Знаешь, сколько лет было Зое Космодемьянской, когда она совершила свой подвиг?
— Ну? — Она не понимала, куда он клонит.
— Меньше, чем тебе сейчас. А ты рискуешь прожить всю жизнь, не совершив ни одного подвига. Зайди и передай Крылову, шепни, что это связано с Панченко. Не выгонят же тебя с работы!
Она колебалась.
Костя схватил с подоконника поднос, поставил на него бутылку, стаканы, сунул ей в руки вместе с письмами.
— Иди! — И распахнул перед пей дверь.
Верочка неуверенно шагнула в кабинет. Когда она вошла, говорил Крылов:
— Не разделяю суровых оценок некоторых моих ошибок и вовсе не считаю ошибкой встречу с Бергером. Но вина моя велика. Куда большая, чем здесь говорилось, — я ошибся в людях и своей публикацией поддержал преступную ложь.
Вера поставила на стол бутылку, стаканы. На нее косились, но никто ничего не сказал — все внимание было сосредоточено на Крылове. Ей было трудно к нему пробраться, и, беспомощно взглянув в его сторону, она вышла. А Крылов продолжал:
— Уверяю вас, товарищи, что-то очень серьезное кроется за письмами. Какие-то силы хотят вывести меня из строя. Пока они победили. Но, поверьте, я не себя защищаю. Вы можете освободить меня от работы, но я как коммунист буду добиваться истины, и не успокоюсь, пока не раскопаю нору, на которую наткнулся, пока не выползут наружу те, кто в ней прячется.
В волнении он умолк. Немного успокоившись, твердо сказал: