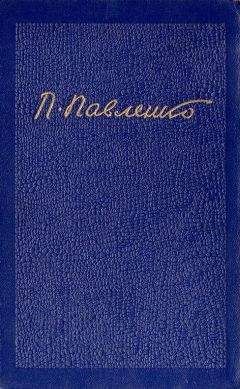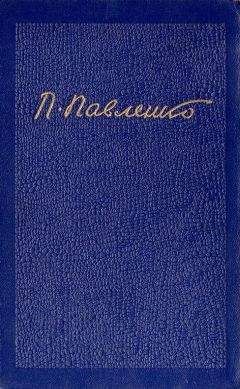Я чувствовал, что мысли его так близко касались чувств, как рука с рукою в нервном пожатии. Он сжал свои руки и так же ощутительно и видимо соединил все токи, разрывавшие его изнутри. Больше не было мыслей и не было чувств — ничего кроме дрожи и жара, кроме восторженной смелости жить в мире далеких и бедных границ, о которых не мог он забыть, потому что они были границами его мира.
1930–1933
У нас есть теперь, с точки зрения развития международного коммунизма, такое прочное, такое сильное, такое могучее содержание работы (за Советскую власть, за диктатуру пролетариата), что оно может и должно проявить себя в любой форме, и новой и старой, может и должно переродить, победить, подчинить себе все формы, не только новые, но и старые, — не для того, чтобы со старым помириться, а для того, чтобы уметь все и всяческие, новые и старые формы сделать орудием полной и окончательной, решительной и бесповоротной победы коммунизма.
В. И. Ленин
Горы в том виде, как они даны нам природой, хороши только издали. Жить в них трудно. Не добровольно вскарабкались аулы на дьявольские высоты, не из любви к альпинизму. Их загнала вверх, на откосы гор, борьба.
Аулы стоят на краю пропастей, как самоубийцы. Сделай шаг к ним, попробуй схватить их — и, кажется, они тотчас ринутся вниз головой в пади ущелий.
Удобства и преимущества горной жизни своеобразны. Они состоят главным образом из недостатков, на взгляд человека равнины. Чем уже дороги к аулу, чем труднее пробраться к нему — тем счастливее этот аул.
Жизнь такая воспитывает, что и говорить. Приобретаются ловкость, выносливость, сосредоточенность, упрямство, настойчивость. С другой стороны, развиваются замкнутость и нарочитое сужение жизненных интересов.
И, однако, Дагестан — вовсе не страна отшельников, а родина удивительных мастеров. Дагестанские Кола Брюньоны — оружейники, медники, башмачники или седельные мастера — забредали и в Бухару и в Фец, переплывали океан и ухитрялись сбывать в американские музеи произведения своих мужественных рук. Они продавали скифские вазы, персидские кувшины и арабские мечи, любовно сделанные ими самими в ауле Кубачи, в ста километрах от железной дороги. Там охотно делают они их и сейчас с тем поразительным искусством, которое способно обмануть глаз и нюх любого знатока старины.
Больше всего в Дагестане оружейников. В дни гражданской войны они мастерили винтовочные патроны; ковали шашки, от руки делали наганы и маузеры, перенося на свои домашние пистолеты, в порыве освоения западной техники, даже чужие фабричные марки. С тех пор они выросли.
— «Посмотри, что с ними стало, — сказал ашуг и взял в руки свой сааз», — как поется в старой песне.
Халил из Согратля
Согратлинцы — каменщики. Еще при Шамиле они славились искусной каменной кладкой, сухой, без глины и извести.
Согратль лежит в горах, на узкой тропе между Чохом и Кази-Кумухом. Развалины царской крепости глядят с соседней горы на пожарище старого Согратля, на обломки каменных хижин, поросших бурьяном. Этот каменный поединок истории (аул сожжен в 1877 году казаками; крепость немногим позже сожжена согратлинцами) красноречив, как памятник.
Снизу, из ущелья, Согратль похож на небоскреб, упавший назад и прислонившийся спиной к скале. Некоторые этажи небоскреба как бы лопнули, и трещины стали ходами. Но общая архитектурная целостность сооружения осталась. Согратль, конечно, сооружение, а не деревня. Он ловко и чисто, как бы зараз, одновременно, построен из тесаного камня. Сакли с большими аркадами условно напоминают Гренаду.
Штабели кизяка (навоз с соломой) на крышах уложены с изящным мастерством и похожи на кирпичные барьеры с рисунчатой кладкой или на макеты ковров с мудреным линейным орнаментом.
После того как закончилась гражданская война и Халил Мусаев, оружейник, перечинил все винтовки и револьверы, он сделал для приезжего гостя тросточку. Можно вскинуть ее к плечу и стрелять, как из маузера, а на вид — обыкновенная тросточка с загогулиной. Зачем он делал эту тросточку, непонятно; но ведь говорят: «Даже великий Леонардо вынужден был изготовить для одного из королевских праздников в Милане автоматического льва, который делал несколько шагов, разрывал себе грудь когтями и обнажал скрывающиеся в груди лилии».
В сущности стреляющая тросточка была формалистским абсурдом, и после нее Хасан перестал делать оружие. Стояли тяжелые дни для Согратля. Аулу необходима была вода для питья и орошения. Из всех реальных возможностей представлялась одна — провести с гор к аулу водопровод в два с половиной километра длиной. Необходимы были трубы. Никто в Согратле, конечно, и не помышлял о том, чтобы написать в Наркомзем и попросить помощи или содействия, — тогда горы еще жили своим разумением. Люди запросто пришли к Халилу и попросили его придумать что-нибудь и, может, даже укоряли стреляющей тросточкой. Халил придумал.
— Надо взять бревна, — сказал он, — и сверлить их. Вот это и будут трубы. Бревна достать вы сумеете, а машину для сверления я изобрету.
И изобрел действительно, и сверлил ею любой диаметр в длину, и просверлил, как и требовалось, два с половиной километра бревен.
Машина получилась хорошая, работала она вручную, силами двенадцатилетнего мальчика, и обошлась, не считая старого железного лома, в каких-нибудь семьсот — восемьсот рублей. Это изобретение положило начало тому Халилу Мусаеву, которого теперь знает весь Дагестан. Машину тотчас потребовал к себе райисполком и долго сверлил ею что-то, потом от райисполкома забрал ее Наркомзем, и теперь трудно даже представить, где она и что с нею. Никто просто не помнит, как она выглядела.
Вскоре сделали Халила Мусаева заведующим мастерскими при согратлинской школе. Тут развернулся он вовсю и наделал сотни фуганков, пил, бритв и оконных рам, воспитав отличных учеников. Изобретать почти не было времени, хотя он все же успел разобрать искалеченную пишущую машину гунибского райкома, заново смонтировать ее, заменив отсутствующие части своими и вместо русского алфавита поставил аварский, для чего самому пришлось лить буквы и гадать, как их лучше разместить на рычажках, чтобы было удобно печатать. В общем машина вышла на славу, но сама работа не понравилась Халилу Мусаеву.
— Детский механизм какой-то. Ни то ни се.
А тут как раз пришла пора строить новую школу, и он совсем отстал от работ мастерской. Школа, — построенная, разумеется, без единого техника, — оказалась прекрасной. Приближалось 1 мая 1933 года.
— Хочется сделать подарок аулу к Первому мая, — сказал Халил и исчез на две недели, взяв с собой нескольких подручных мастеров.
Мая 1933 года на маленькой согратлинской площади, между мечетью и читальней, торжественно был открыт памятник Ленину. Он весь из целого камня. Голова — работы Мусаева.
С этого дня слава Халила стала славой Согратля. Им хвалились согратлинцы на базарах, именем его попрекали соседние аулы своих нерешительных мастеров. Гордо Согратль вызывал соседей на установку такого же памятника. А памятник просто великолепен. Голова Ленина на крепких и легких плечах молодо глядит на аул.
Не успел Халил закончить памятник, явилась необходимость надстроить второй этаж школы.
Но штука не в том, чтобы достроить, — говорит Халил, — а так надо сделать, как еще нигде не было, — и задумывает во всю длину наружной стены второго этажа барельеф, он показал на голландскую печку в классе, выступающую из стены на треть своего объема, и сказал, что вот в таком роде и будет Маркс, читающий «Капитал» народу. Барельеф торопился закончить он к началу учебного года — к сентябрю, был хмур, молчалив и стеснителен в разговоре.
— Когда освобожусь, сделаю один подарок Сталину. Револьвер!
— Такой? — товарищ показал красивый бельгийский пистолет.
— Зачем же такой делать, раз уже фабрика его делает. Надо такой, какого еще никогда не бывало.
— Какой же?
— Сразу сказать трудно. А месяца через три сделаю, тогда увидите. Сначала надо изобрести инструменты, которыми придется делать револьвер, и вот это трудно. Мне бы маленьких напильников штук пять-шесть, круглых, плоских, трехгранных. А когда инструменты изобрету, тогда сделаю семизарядный лучше любого, необыкновенный револьвер будет.
Он стоит и улыбается в мелкую бороденку. Согратлинцы окружают его толпой и смотрят на мастера, гордясь им без всякого стеснения.
— Скоро у нас украдут Халила, как девицу. Все аулы нам завидуют. Все он может — и мост построить, и памятник сделать, и револьвер, и фуганок. Наверно, скоро автомобиль сделает.
— А ты что хочешь, Халил? Учиться бы не поехал?
— Учиться бы не поехал. Я путешествовать бы поехал. На Тульский оружейный завод хочу путешествовать. Насчет пулемета у меня кое-что в голове есть, — и стоит, как виноватый, теребя пояс нервными неутомимыми руками, тридцатисемилетний ребенок, только вчера почувствовавший волю к жизни.