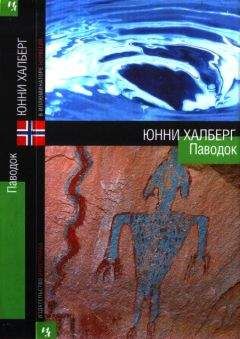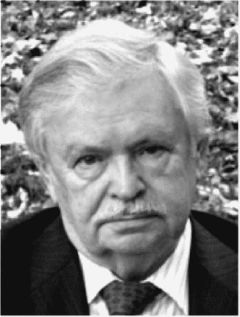Семка ощутил, как окаменело у него лицо.
– Сколько? – спросил он.
– Чего сколько? – не понял Демка.
– Сколько платить? – произнес Семка.
– Ну… – замялся Демка. – Не считал, – потом откинул сомнения: – Двадцать пять.
Семка бежал домой, кусая губы, боясь разреветься при всех, на улице, но, переступив порог, дал себе волю.
Мама, слушая, гладила его по плечу, говорила какие-то слова, но он не мог, никак не мог понять почему, зачем? Зачем такое предательство?
Слезы лились, мамины слова не помогали, – они не объясняли, а просто успокаивали.
Неожиданно мама сказала:
– Перестань! Ты ведь всегда был сильным.
Она сказала это жестко, уже не уговаривая, и Семка сразу успокоился. Мама заняла у соседей денег, Семка пошел в институт, где работала Анна Николаевна, разыскал ее, отдал деньги.
Сперва Демкина мать ничего не поняла, спрашивала: «Какие деньги? За что?» Но когда до нее все-таки дошло, Анна Николаевна сжала губы и замолчала, глядя в окно. Она долго думала о чем-то, потом сказала медленно, словно про себя: «Как же так?» И повторила: «Как же так?» Словно Семка ее обманул.
Семка был поглощен своей обидой тогда и не очень вглядывался в лицо Анны Николаевны, не очень старался понять, чего это она задумалась, только позже, когда все утихло в нем, когда он подрос и прошло время, он понял, что Демкина мать себя об этом спрашивала, себя и никого больше.
Анна Николаевна помолчала, решительно взяла деньги и сказала:
– Тебе их вернет Демид. Он принесет сам.
– Не надо, – сказал Семка, но Анна Николаевна не дала ему говорить.
– Молчи! – сказала она. – Молчи!
Демка пришел наутро, принес деньги, Семка не брал, и Демка готов был встать на колени, чтобы его простили. Семка не мог выдержать этой истерической сцены, не мог глядеть в умоляющее Демкино лицо, он кивнул головой, прощая, они пошли на лодочную станцию, катались на байдарке, но ничего у них не выходило, ничего не клеилось: Демка торопливо говорил о чем попало, Семка отвечал междометиями, и когда стало невмоготу, спросил:
– За что же ты меня так?
– Не знаю, – сказал Демка, мрачнея, – сам не знаю. Чего-то мне жалко стало. Какая-то напала жадность, и я не удержался.
Они встречались потом не раз, но Семку уже не тянуло к Демидке, хотя Анна Николаевна старалась склеить их старую дружбу. Что-то поселилось внутри Семки, какое-то отвращение к Демиду. Он не раз спрашивал себя, поражаясь: неужели жадность может вызвать предательство?
Выходило, может…
Демка все приходил и приходил к нему, и всякий раз, увидев лицо приятеля, Семка вспоминал то предательство и думал: что раз было однажды, может повториться снова… Демка сказал: жадность. И еще сказал, что не удержался. Но откуда в нем вдруг оказалась жадность – вон Анна Николаевна какая… «Может, – думал Семка, – жадность, предательство и всякая прочая гадость в каждом человеке есть, все дело действительно в том, чтобы удержаться. Чтобы эту гадость в себе утопить, уничтожить?»
Это он думал тогда, мальчишкой. А с Демкой они так и разошлись.
Демкино предательство долго саднило память, обжигая чем-то горячим, обидным, но потом все прошло, забылось.
А вспомнилось вдруг сейчас. Не к месту, не вовремя. Предательство Демки касалось только его, здесь же их было четверо. Тогда оскорбили его честь и достоинство, теперь речь шла о жизни.
Семка мотнул головой, отбрасывая эти глупые мысли. «Смешно даже, – подумал он, – разве можно сравнивать детство и то, что сейчас? О нас думают, – решил он, – знают и непременно спасут».
Семка взглянул на небо.
Луна, окаймленная мутным кругом, равнодушно озирала окрестность.
– Хорошо! Я признаю свою вину. Вы, вероятно, правы. Я не всегда проявлял достаточно человечности, гуманизма, доброты. Но согласитесь – это вина нравственная. Понимаете? Не уголовная, а нравственная. Это из области человеческих ошибок, о которых не говорится в Уголовном кодексе.
– У вас дети есть?
– Двое. Жена. В конце концов, не я, а моя семья, сознание того, что я единственный ее кормилец, могут вызвать, ну, не оправдание, так снисхождение? Моральное опять же?
– И у него остался ребенок. Он тоже был единственным кормильцем.
– Я готов искупить свою нравственную вину, если уж вы меня обвиняете. Ну, я могу, скажем, платить алименты на воспитание его ребенка.
– Слушайте, Кирьянов! Я вот гляжу на вас, внимаю вашим речам и никак не могу понять: где же предел вашего цинизма, вашей… впрочем, стоит ли подбирать слова – вашей подлости!
– Жалею, что мы встретились с вами в такой неравной ситуации.
– Ситуация неравная, это верно. И, боюсь, выравнять ее не удастся. Вряд ли судья и народные заседатели захотят увидеть лишь вашу нравственную вину, лишь вашу халатность, хотя и за халатность судят. Вы совершили уголовное деяние, Кирьянов. Я не прокурор, пока вы только подследственный, но я говорю вам: убийца – это вы!.. Впрочем, достаточно. Следствие окончено. Вы рассказали мне много больше, чем требуется от подследственного, Кирьянов. И вы мне ясны. Мне же хотелось узнать еще лишь одно. Что думал каждый из вас в девятнадцать часов пятьдесят минут двадцать пятого мая? Что было с каждым из вас – по ту и по эту сторону разделившей вас черты?..
25 мая. 19 часов 50 минут
Орелик сидел на краю островка, и его знобило.
В полутьме слышался хруп льда и виднелось небольшое пятно. Дядя Коля продирался к плотику.
Неожиданно для себя Орелик заплакал.
– Дурак! – прошептал он, ругая себя. – Дурак!
– Что ты там шепчешь? – спросил, наклоняясь и вглядываясь в него, Семка.
– Это я виноват! – крикнул Орелик. – Я! – заорал истошно, дико, испугав Семку. – Дядя Коля! Вернись!
Семка толкнул Вальку в плечо, и тот заплакал навзрыд, не таясь, полез по привычке в карман ватника за платком и вытащил тетрадку.
В нем было письмо Аленке.
Бесконечное, недописанное письмо.
Лицо Орелика вытянулось. Он смахнул рукавом слезы, нерешительно замер.
Потом стал рвать тетрадку.
Мокрые страницы поддавались легко.
– Свихнулся! – крикнул ему Семка, дрожа и тоже плача. – Свихнулся, да?
Но Орелик исступленно рвал тетрадку. Глаза его глядели в темноту, и вдруг он замер.
Крик заклокотал в его горле.
– Люди добрые, – пробормотал он. – Помогите!
25 мая. 19 часов 50 минут
Едкий, желтый дым от выстрела карабина послушно плыл за плечами Кирьянова то в одну, то в другую сторону.
Он метался по комнате, исходя злостью и грубо матерясь.
Наконец шаги его стали ровнее и тише.
Потом остановился, прислушиваясь к себе. Злость угасала, как костер, ее требовалось залить окончательно.
Он подошел к зеркалу, поправил сбившийся галстук, провел, ероша волосы, ладонями по бороде и вышел на улицу, прямо так, в светлом костюме, не одеваясь.
Мороз освежил его, прознобил, и в столовую ПэПэ вошел румяным, в прежнем расположении духа.
– Ну-у! – гаркнул он, открывая ногой дверь. – Нальемте бокалы и выпьем их разом!
Гости загудели: спирт уже кончился. Разлили остатки.
– Сейчас придет машина! – объявил Кирьянов, глядя на часы. – Привезет ящик спирту!
Гости засуетились, рассаживаясь по местам, готовясь к продолжению праздника. Петр Петрович ревниво оглядел их лица. Чиладзе и Лаврентьева не было. Не было и еще кое-кого. Он запомнил это, сделал зарубку в своей памяти. «Зашевелились людишки, – подумал он, – зашевелились».
– А пока! – крикнул Кирьянов. – Выпьемте… – он подумал, пошатываясь, опустив голову, потом снова вздернул бороду: – За нас!
Он приосанился, в глазах блеснул огонек целеустремленности.
– За нас! – повторил он. – За покорителей Сибири! За переустроителей жизни! Виват!
25 мая. 19 часов 50 минут
Дядя Коля плыл в темной воде, и каждый метр отдавался болью. Телогрейкой он обламывал лед перед собой, но запястья рук были не защищены, и лед резал их. Перехватиться было некогда, неудобно, и он сжимал зубы, думая – странно – не о плотике, не о своей цели, а совсем о неважном теперь деле.
Он думал о Вальке, о том, как ударил Орелика, и хотя понимал, что иначе не мог, что иначе, с разговорами, они проваландались бы еще бог знает сколько, вина перед парнишкой никак его не оставляла. Его все не оставляла мысль, что Орелик годится ему в сыновья, и это беспокоило его особо, – будто стукнул он малое дитя…
В какой-то миг он, однако, забыл о Вальке.
Дыханье стало прерывистым, кровь бухала в висках, тело налилось усталостью.
Перед глазами пошли красненькие пузырьки. Симонов решил, что это пот, потянулся рукой смахнуть его, выпустил ватник, а взять снова не смог: намокшая телогрейка ушла одним краем вниз, под воду, и потянула его за собой.