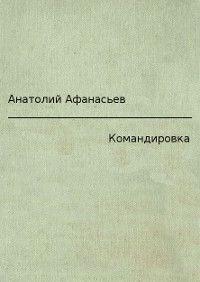Зарыдала и опрометью вон.
Стали жить. Девочка родилась, Анюта. Теперь уж большая — восемь лет.
— Чем же ты несчастный? — уловил я все–таки отправную точку рассказа. Чем?
Шутов смотрит на меня с осуждением.
— Хитрая она, — говорит он с пьяной протяжной истерикой. — Вся ее семейка, Варькина, хитрющая. Тихая, покорная исподтишка. Они, Витек, мои жилы тянут своей тихостью. Ты думаешь, Витек, тихие да смирные свой кусок упускают? Ни в жисть. Они его помаленьку заглатывают. Снаружи кусок еще вроде целый и свежий, а что заглотали — уже переварено. И то бы ничего, что от меня половина осталась, а половина пережевана, а то горе, что я ее до сих пор, Варьку, жалею и вырвать из себя не могу, из нее вырваться не могу. Она мне не жена, сестра, но сестра–то родная, убогая, сломленная. Мной и сломленная, нелюбовью моей подлой. Теперь и Анюта, конечно. Потому я и несчастный, Витек, что жизнь моя — большая скука. Никого и ничего крепко не люблю, не дорожу. Силы есть, а любви нету и не будет. Не будет, ничего не будет. Ложь и подлость. Танька, видишь, красивая, да? Лучше всех. Таких ты и в Москве немного встретишь. Свистну — на карачках приползет.
— Возомнил ты о себе, Петя, — говорю я в миг просветления. — Мы с тобой друзья по гроб жизни, и правду я тебе открою. Дерьмо ты, Шутов, раз о женщине так говоришь.
— Я дерьмо, а ты нет?
— И я дерьмо. Будь здоров какое.
— Ты — да, но не я. Скажи, почему я дерьмо? Скажи — не трону. Ты учился, скажи.
— Себя ты очень любишь, Петенька. Ты глянь в зеркало, пьяная рожа, чего там любить–то. Ложь и подлость всюду ищешь, а сам, как половая тряпка. Капитанову ноги лижешь, государство обманываешь, людей обманываешь, Таню обманываешь, жену предал, сам в чаче утонул. На тебе, Петя Шутов, пробу негде поставить, такое ты дерьмо.
Он встает и делает передо мной упругий реверанс.
Стреляет:
— Выйдем.
Мы минуем комнату, где три школьные подруги — Света, Муся, Таня, обнявшись на диване, горькими голосишками выводят: «Зачем вы, девочки, красивых любите?» — по очереди перешагиваем растянувшегося у двери доброжелательного пса Тимку, выходим на крылечко. Ночь и звезды. Сладкий запах листвы. Я не пьян почти, только глаза режет. Сверчок чирикает в густой тьме.
— Спускайся, отойдем! — приказывает снизу Шутов.
— Вернемся! — говорю я.
Опять комната, и мы все за прежним столом — школьные подруги, Шутов и я. Кооператор Захорошко с супругой отсутствуют.
Таня капризно цедит:
— Душно как. Искупаться бы.
Света посылает мне многообещающий, нежный взор. Не исчерпан праздник жизни.
— А что, это хорошая мысль. Пойдем купаться.
Через пять минут мы уже выходим из калитки вчетвером. Муся остается спать, решила, что у нее нет кавалера. Света висит на моей руке.
— Виктор, — шепчет Света, — вы скоро уедете?
— Вообще не собираюсь уезжать. Присмотрю домик, деньги у меня есть. Думаю тут обосноваться.
— Хо–хоньки!
Черная просека улицы утыкана светящимися бляшками фонарей. Кроме них, нигде ни пятнышка. Спящий город, мираж. Тишина покалывает перепонки. Хочется говорить приглушенным голосом.
Что бы сказала Наталья, увидев меня сейчас? Она не ревнивая, ее безумию чужды первобытные инстинкты.
Я знаю, что люблю ее.
— Петя, — зову я, — Таня! Мы не заблудимся?
— Не боись! — хрипит Шутов. Белое пятно его рубашки слилось со светлым Таниным сарафаном в причудливую фигуру. Какое–то квадратное со многими конечностями чудище переваливается впереди.
Сворачиваем в парк. Жутковато, но весело. Чудесная прогулка. Света всей своей переспелой тяжестью давит мое плечо, все крепче тянет, все увереннее, настойчивее. Куда?
Наконец, озеро, наполненное чуть колеблющейся ртутью. Замерев, мы стоим на берегу, неуверенные, как заблудившиеся дети.
Петя Шутов, точно в забытьи, начинает медленно, молча раздеваться. Вылезает из брюк, стягивает через голову остатки заграничной роскоши. Таня, повернув к нему голову, быстро проскальзывает пальцами по пуговицам сарафана, одним движением освобождается от него. Ее тело фосфоресцирует в звездном свете.
Зажмуриться и ничего больше не видеть. Ночь, шуршание елей, озеро и богиня. Кому повезло, кто подглядел — умри, не сомневайся. Что еще остается. Умрешь без мук, созерцая, а не скуля от страха перед вечным отсутствием.
— Я не дура, — жеманно тянет Света, тиская мою ладонь. — Я в такую темную воду не полезу. Брр! Там лягушки.
— Сама ты лягушка! — вскрикивает Таня и первая, с разбегу, блестящей живой торпедой рассекает волшебную гладь. Шутов, мужественно крякнув, — за ней.
— Не уходи, — заманчиво журчит Света. Куда там — не уходи. Я уже в воде, уже догоняю беззаботных плавцов, каждая моя жилка поет и стонет от великой истомы мгновенного обновления. Вода — теплая, парная. От нашего шума, смеха, крика колеблются леса окрест, уползают в норы хищные твари.
— У-ух! — вопит Шутов и куда–то навсегда уныривает. — Э–е–е-е! — верещит совсем не подходящим богине голосом Татьяна. — Ду–у–рак!
— Полундра! — ору я. — Акула!
Обессиленные, задыхающиеся, выплываем мы на берег, где под кустиком, печально обхватив колени руками, сидит, дожидается нас благоразумная Света.
— Вы чокнутые, что ли? — спрашивает она. — Того гляди, милиция явится.
На мокрые тела натягиваем одежду.
— Теперь в гостиницу! — стучу я зубами. — У меня там икра осталась.
Праздник продолжается. Он продолжается до той минуты, пока на стук в дверь из глубины вестибюля не вырисовывается полусогнутый человекообразный швейцар. Он долго разглядывает нас через стекло, отперев, загораживает собой проход и тычет клюшкой мне в грудь:
— Кто такие?! Почему хулюганите?
— Я живу здесь, живу. Постоялец. А это мои гости. На минуточку обогреться.
— Вон оно что, — басит швейцар, с трудом сбрасывая путы сна. — Все постояльцы наши на своих местах. В двенадцать — отбой.
Он пытается замкнуть дверь, но я просовываю в щель ногу и сую ему под нос квитанцию и рубль в бумажной купюре.
— Отворяй тут вам, гулякам, среди ночи, — ворчит старик, ловко пряча рубль куда–то за пазуху. — Ты, ладно, заходи, а которые гости — фьють, фьють!
Досадное неизбежное просветление. Света первая заторопилась:
— Что вы, что вы, пора! На работу вставать. Ужас–то какой!
Таня зевнула с неприличным всхлипом. Пора.
Шутов позвал:
— Отойдем на секунду, Витек.
— Что? — отошли. Девушки следили за нами с запоздалой опаской. Швейцар задремал, облокотившись на дверной косяк…
Шутов сказал:
— Ты мне по душе пришелся, Витек, честное слово. Не хочу, чтобы ты ошибался: я не дерьмо. Понял? И про блок не думай, не мучься. Мы его наладим. Понял?
— Понял, Петя. Спасибо.
Усталое у него лицо, предутреннее.
Я поцеловал Тане руку на прощание, а Свету чмокнул в щеку. Они обе были, как статуи. Швейцар, поминая какого–то черта безмозглого, запер за мной дверь.
Я поднялся к себе, принял душ.
Одна таблетка седуксена, серая морда зари за окном. Тиканье часов под ухом. Ну, поплыли, Витек.
Витек, надо же… Никаких сновидений…
Перегудов, Перегудов — благодетель, работодатель, суровая душа, закованная, как нога в ботинок.
Жизнь моя до встречи с Владленом Осиповичем — это одна жизнь, после встречи с ним — совсем другая.
В молодости я увлекался людьми, как иные увлекаются коллекционированием вещей. Не однажды, повинуясь властному зову непонятного влечения, я волочился за женщинами, маскируя свою душевную аномалию общепринятой формой. Меня принимали за влюбленного, хотя я испытывал только зуд любопытства. Вообще сложно это объяснить. Все мои чувства и разум всегда сопротивлялись подобным фальшивым с моей стороны контактам, но какой–то один нерв во мне, зудящий как больной зуб, необоримо настаивал на сближении. Я особо выделяю женщин, потому что с мужчинами бывало проще, там обычно создавалась видимость приятельства, необременительного для обеих сторон. И разрыв такого приятельства сходил, как правило, гладко, без надрыва. В молодости я болел каждым своим знакомым в в отдельности, в разное время, но сердцем ни к кому не прилепился.
Потом сей хронический недуг (а как иначе назвать?), столь долго мучавший и унижавший меня, но и приносивший много радости, прошел. Я познал благотворность одиночества, не замутненного постоянным обезьянничаньем. Все те образы, которые я примерял к себе, растаяли, и мне удалось слегка разглядеть собственное лицо, чуть–чуть понять движения собственной души. Иными словами, я, наверное, позднее, чем многие, вступил в тот возраст, который называют зрелостью.
Знакомство с самим собой не было легким и приятным. О, светлые и возвышенные иллюзии отрочества, канувшие в пучину самоанализа! Вас не жаль, а жаль того парения духа, когда кажется, что твоя судьба вознесется над миром подобно радуге. Человек мыслящий проходит много стадий лучезарного самовозвышения и слезливого саморазочарования, пока наконец не утвердится в каком–то более или менее определенном мнении о себе, которое (ошибочно оно или нет) уже почти не меняется с годами. Время приглушает страсть к самопознанию, как и многие другие страсти.