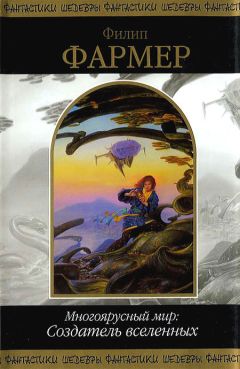— На нашем участке фронта ожидаются большие бои, — опять сказал Корж, прикрывая карту ладонью. — А, как полагаешь? Ты, Трофимов, не новичок, что есть у тебя про запас? Выкладывай.
Трофимов помолчал и стал рассказывать о Скворцове, о надежде, какая с ним связана, и что предусмотрено, если план провалится. Корж внимательно слушал, глядя сквозь стекла очков; план был ему не до конца ясен, но он не перебивал; все-таки хорошо, что учли возможность провала и приняли меры, хорошо, что перед ним человек трезвый. Правильно он отстаивал Трофимова и не пустил к нему молодого стрекача-особиста, хотя тот предъявил свои полномочия на расследование случая, когда отряд Трофимова был в прошлом году окружен и понес большие потери. Кажется, тогда во всем разобрались, так нет, опять горячка, опять «трясут» Трофимова, только и помогло категорическое ручательство лично его, Коржа. С него довольно крикунов, с ними и в веселье плохо, а в беде пропадешь. И он, осуждая себя, опять и опять думал о недавнем очень тягостном провале в Ржанске; мало, что провалился, стал предателем, других погубил, а ведь по его, Коржа, рекомендации оставлен в подполье. Не сумел разглядеть нутро, нравилось: молод, энергичен, непримирим. А за всем одно — пустота, краснобайство, эгоизм. Вот погиб сам и других погубил.
Корж слушал Трофимова, не пропуская ни одного слова, и в то же время не мог остановить в голове другую, оценивающую работу. Резало глаза, он уже знал — подскочило давление. Он уверен в Трофимове; что он может еще припомнить? Впрочем, зачем ему что-то припоминать, о человеке говорят его дела. Ведь есть еще и чутье, он верит, и все, и никакому особисту он Трофимова не отдаст. Жив будет, в свое время все разъяснится, погибнет — судьба.
Рассказывая, Трофимов глядел на свои руки; все-таки, как видно, решать придется ему самому, все будет зависеть от обстоятельств, вот и Корж не дает категорических указаний, он понимает сложность и напряженность обстановки.
— Как возникла эта мысль со Скворцовым и Веретенниковым? — тихо спросил Корж, стараясь не шевелиться; сердце, когда он подумал об этих людях, тяжело ворохнулось и сжалось, и сразу появилось ощущение нехватки воздуха; он стал дышать медленнее и глубже. «Нервы, нервы, — сказал он себе. — Сдаешь старик. Плохо, конечно, что люди вынуждены идти на это, будут речи и указы, и будут называть их именами пионерские дружины и улицы, а людей уже не будет, и ничего нельзя будет изменить — за смерть ничем воздать нельзя».
— Они сами предложили, Веретенников Иван… — так же тихо сказал Трофимов, и Глушов кивнул. — Последнее время они очень сдружились.
Корж поправил очки, кашлянул. Он хотел сказать о массовом героизме, о советских людях и в последнюю минуту удержался, промолчал. И Трофимов и Глушов думали сейчас то же самое, здесь ничего не прибавишь, а только сфальшивишь. Пошли на заведомую гибель, тут уж какие слова. И для Трофимова, и для Глушова, и для всех остальных, кто знал, на что Веретенников и Скворцов решились, они уже мертвы, чудес не бывает. На войне приходится хоронить и живых, но от этой мысли сжалось сердце. Придется, наверное, делать укол. «От слабости, — сказал он себе. — От недосыпания, недоедания, от возраста, да, да, и от возраста. Ничего не поделаешь, пятьдесят семь, старик, вот так. Еще не пришло время всяким хворям, придержи-ка свое сердце, сквозь страдания, жертвы, кровь идти, идти, идти…»
Огромным усилием заставляя себя ни о чем, кроме дела, не думать, Корж поднялся, и его тень метнулась к потолку.
— Значит, задача вам ясна. Покровский укрепрайон номер семнадцать и рокада. Получите дополнительный приказ, когда сделать. Вопросы, просьбы? Посильно поможем.
— Нужны в основном гранаты и патроны, — четко, по-военному отозвался Трофимов, отсекая все лишнее.
— Будут. О сигналах. Как только вам сообщат… У вас есть ракеты? Ну вот, две красные, одну зеленую прямо вертикально вверх. И костры пятиугольником. Груз вам сбросят самолетом. В момент самого наступления вас поддержит авиация.
И опять Корж не сказал, когда им лучше прорываться — заранее или уже после получения приказа захватить Покровский укрепрайон № 17, перерезать рокадные дороги, взорвать мосты через Ржану и держаться, держаться, во что бы то ни стало.
Один раз у Трофимова мелькнула мысль о сорок первом, тогда ему тоже был дан такой приказ, но он тотчас же отбросил ее. Сорок первый — сорок первым, а сейчас уже сорок третий, совсем другое дело, — сказал он себе, ощущая громадность происходящего, и рядом, и за тысячи, тысячи километров. Если нужна такая жертва, что ж, мы готовы. Это ведь не сорок первый. Мы обязаны это сделать и сделаем.
— Выполним, — повторил Трофимов вслух.
— Со мной прибыл связист, лейтенант Воловко. Он для специальной связи между вами и штабом фронта. Вся дальнейшая связь через него.
Трофимов позвал дежурного.
— Слушай, Васин, чаю нельзя, а? Сходи, пожалуйста, к Почивану. Разбуди, может, у него кофе окажется, он мужик запасливый. Скажи: очень нужно.
— Есть, товарищ полковник! — сказал дежурный и быстро вышел. Почиван спал чутко и сразу вскочил; время уже предрассветное, вот-вот проснутся птицы, но пока все молчит, и только часовые борются со сном, изо всех сил вслушиваясь в тишину.
14
Третий день Шура ждала своей очереди на самолет, на Большую землю. Операция закончилась хорошо, Шуру даже не отправили в первую очередь, хотя она была единственная женщина среди раненых, собралось много тяжелых, срочных. Ее оперировали в лесу, под навесом, и ей было очень больно, и женщина-врач успокаивающе кивнула ей; поверх ослепительно-белой марли Шура увидела ее внимательные черные глаза и ресницы, влажные от пота; в черных внимательных глазах была жалость, хирург наклонила голову и стала что-то делать с ее, Шуриным, телом, и тянущая, вязкая боль выдавила на глаза слезы; Шура облизала сохнущие губы и опять встретила по-женски жалеющий, понимающий взгляд хирурга, которая глухо сказала в этот момент через марлевую повязку: «Ничего, деточка, потерпи, потерпи». Она сказала, потому что именно в этот момент (она знала) Шуре тяжелее всего (общего наркоза не было, а местный не мог охватить всего оперируемого участка). Шура вспомнила, как ее горячо ударило в грудь и она удивленно ойкнула, а больно стало позднее, через минуту или через две-три, а сначала только ощущение сильного толчка. Ноги подогнулись, она не могла ни двинуться, ни присесть и сползла на колени, держась за дерево, и, пригнувшись лицом к теплой коре, тихо плакала. Ей было стыдно, что она не может двигаться сама и ее должен нести на себе Володя. Сейчас, вспоминая, она слабо улыбалась, кто мог подумать, что Володя такой сильный — столько километров протащить ее на себе! Операция, кажется, прошла благополучно, и, очевидно, она все-таки попадет на самолет, если постоит погода, даже сегодня в ночь, а самое позднее — завтра. Володя, Володя, — она едва удержалась, чтобы не позвать его вслух.
Как и все здесь, она на людях звала его: «Скворцов», но про себя называла «Володей», а он ее всегда «Шура», «Шурочка», «Шурочек», «Шурок», и ей было смешно: еще немного и получалось «шнурочек» или «шнурок».
Шура ждала этой минуты, знала — она наступит. Знала, что никто не поможет ей и не скажет, где Володя и что с ним. Вот уже недели три назад, после операции, Володя приходил к ней. Она как раз спала, она узнала его во сне, почувствовала его запах и даже потянулась к нему губами, но окончательно проснуться не могла, а он не разбудил, постоял возле, час или два, все это время она спала и стала дышать ровнее и глубже; уходя, он поцеловал ее. Тогда она не почувствовала никакой тревоги, только радость от того, что он рядом, она была очень слаба тогда и все время спала. А сейчас все чаще ее охватывала неясная тревога, Володи нет, все улыбаются, ободряют ее и не говорят правды. «Все кончилось в ее жизни, больше ничего не будет; нет, — сказала она себе торопливо, испуганно, — нет, нет, ведь так не бывает, так нельзя.
Почему? Вот придет самолет, ее погрузят, потом выгрузят, и следы сотрутся, в мире столько людей, их следы долго не держатся. Нет, нет! Лучше бы она никогда его не знала и лучше бы не было…»
Она хотела сказать: «Лучше бы не было жизни», — и побоялась, она повернула голову и увидела рядом переспевшую черно-красную ягоду земляники, крупную, отяжелевшую от времени, и расплакалась судорожно, хотя плакать ей было нельзя.
— Хватит, перестань, — услышала она настойчивый, мягкий голос и умолкла, не отнимая руки от глаз (лежала она навзничь, потому что иначе лежать ей было нельзя). По голосу она узнала Павлу. Шуру смущала эта женщина, которую все любили в отряде, и ласково, несмотря на возраст, называли «мамашей», а она, Шура, не могла себя пересилить и относилась к Павле настороженно и недоверчиво; иногда она ловила на себе взгляд Павлы, пристальный, как бы изучающий, и смущалась, и все никак не решалась спросить о Павле у Скворцова, хотя знала, что они из одного села.