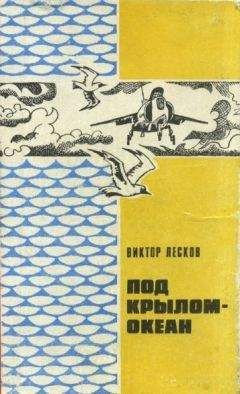И самолет не остановить. Он и держится только на скорости. Полоса неумолимо летит навстречу, а они где-то в стороне от нее, совсем заплутали в снежной круговерти.
Хрусталев включил фары. Свет рассеялся вокруг самолета, застрял в облаках, и было такое впечатление, что они идут сейчас по выстланному ватой шурфу. В кабине стало совсем светло. Александр Иванович сидел, вцепившись руками в штурвал, светилась перед ним целая панель приборов, но он как будто не видел ни одного из них. Все эти бесчисленные стрелки потеряли для него, казалось, всякий смысл, а его самого словно загипнотизировали, он реагировал только на голос с земли. Скажут «правее» — он дергает штурвал влево, потом оказывается, что нужно «левее», и штурвал так же послушно перекладывается в обратную сторону. Суетится Александр Иванович, ворочает штурвалом из стороны в сторону и безотчетно все сильнее и сильнее отжимает самолет на снижение.
— Командир, плавнее, ниже глиссады идем! — поддержал штурмана Хрусталев.
— Исправлю, Андрей, исправлю, — скороговоркой согласился с ним Игнатьев, но тут же забылся, и повторилось все снова: пошел штурвал вперед.
— До полосы четыре, правее триста, ниже глиссады сорок, — проинформировали с земли.
По-хорошему, сейчас уже надо давать газ и уходить на второй круг. Не вышел заход, чего там еще плести «кривули»!
А Игнатьев запрашивает:
— Сорок шестому посадку!
Все-таки надеется еще умоститься на полосу, хотя ясно уже, что вряд ли это удастся.
— Полосу видите? — спросили с земли.
— Вижу, — ответил без колебаний.
— Разрешаю посадку.
А на самом деле в этой клубившейся мгле не то что за километры, за несколько сот метров ничего не было видно.
Но самолет продолжал снижение, выписывая «ужаки» вдоль створа полосы, хотя теперь, на предпосадочной скорости, стоит лишь немного переборщить с креном — и машина рухнет на землю.
— Удаление два, ниже тридцать, правее семьдесят. — В голосе руководителя появилась заметная тревога. — Прекратите снижение!
— Исправляю.
Игнатьев поддернул штурвал, двинул вперед сектор газа, но его внимание отвлекли те же дурацкие довороты. Он опять упустил высоту.
— Подходите к полосе, возьмите посадочный, но не уклоняйтесь влево, не уклоняйтесь влево! — Теперь в эфире звенел только нервный голос руководителя посадки. — Не снижайтесь! Прекратите снижение! Черт возьми, там же капониры! — сорвался он на крик.
— Сорок шестой, уходите на второй круг! — прозвучал твердый, не терпящий возражений голос старшего начальника.
Но самолет продолжал снижаться. Хрусталев мельком взглянул на командира: Игнатьев с напряженным лицом смотрел на приборную доску, все еще пытаясь собрать расползавшиеся в разные стороны стрелки. Скорее всего, не слышал он последней команды, прошла она мимо его сознания.
И Хрусталеву вдруг стали понятны те необъяснимые катастрофы, когда летчики при заходе на посадку в сложных условиях падали перед полосой. Похоже, и Игнатьев уже переступил последнюю черту естественного ощущения опасности — он был сейчас одержим только одной мыслью: сесть во что бы то ни стало! И будет теперь снижаться до последнего, до столкновения с землей, утратив способность предвидеть надвигающуюся катастрофу, от которой их отделяют считанные секунды.
— Командир, передали — уходить на второй круг! — Хрусталев легонько поддернул штурвал.
— УПРТ девяносто, уходим на второй круг, — словно очнувшись, дал команду Александр Иванович. — Держи управление, Андрей… держи, рассыпается все, — приглушенно попросил он…
Эту картину, видимо, было жутко наблюдать со стороны. Выхваченная над самой землей тяжелая четырехмоторная машина, покачиваясь с крыла на крыло, уходила вверх, в ночное небо, высвечивая острым лучом фар белые трассы летевшего навстречу снега.
Самолет быстро набрал скорость, «плотно сел» в поток и снова стал легкокрылой ласточкой.
Все молчали, приходя в себя. Не снимая руки со штурвала, Хрусталев, наклонив голову, вытер потное лицо о рукав куртки. Колени дрожали, язык, казалось, стал деревянным и будто запал в гортань.
— Крути, Андрей, первый разворот, — словно издали сказал ему Александр Иванович. Он, видимо, не обиделся, что Хрусталев вмешался в управление. Скорее, наоборот. Даже сам закрылки убрал, не стал отвлекать «правака» от пилотирования. Как бы поменялись на этот полет ролями. Александр Иванович сидел тихонько, привалившись плечом к креслу, и вид у него был, конечно, далеко не боевой: усталые руки бессильно лежали на коленях, сам он ссутулился и смотрел, полуотвернувшись куда-то в сторону, в темень. Как-то отстранился он от полета, вроде попал в эту кутерьму случайно и сейчас хотел только одного — чтобы его оставили в покое…
Хрусталев смотрел на него сбоку и вспоминал слова Тамары о нем. Она приходила к Андрею в гостиницу вечером того же дня, когда произошел спор летчиков в классе…
Никогда не думала Тамара, что пойдет к Андрею, но случилась беда — и не могла не пойти.
В тот день Саша пришел домой раньше обычного. Она уже привыкла, что он является затемно, даже ужинал в своей летной столовой, а на этот раз и Алинка еще не спала, топталась в большой комнате около серванта. Шел ей уже девятый месяц, поднималась доченька на ноги. Увидела отца, опустилась на палас и замельтешила ручками-ножками — быстрее к нему.
Научилась Тамара определять состояние мужа по первому взгляду. Не удалось ему легко, беспечно улыбнуться, осталась в глазах какая-то омраченность.
— Ничего не произошло? — спросила она.
— Нет, все отлично! — Он взял Алинку на руки, прошел к дивану. — Чем вы тут занимаетесь? Давно я с тобой не играл, — щекотал подбородком животик дочери. А она, откинув голову, звонко смеялась.
Не жаловалась на свою жизнь Тамара. Соберутся иногда женщины, начнут вспоминать своих мужей: и такие они, и сякие, и пьют, и гуляют, и дома ленятся помочь, а она про себя думает: ее Саша совсем не такой. Легко с ним жилось. Он предугадывал все ее желания. Даже на кухне пытался помогать, но неловко ей стало: мать никогда отцу кухарничать не позволяла, и она не разрешит Саше заниматься женскими делами.
А он жаловался:
— Мне без тебя скучно!
— Ну тогда оставайся, — смягчалась она. — Смотри, какие из-за тебя метисы получились! — и показала вытянутый из духовки противень с подгоревшими рожками.
Правда, только себе она могла признаться, что не находила в душе того трепета и волнения, которые чувствовала когда-то к Андрею. Позвал бы он ее — пошла бы за ним хоть на край света.
Понимала Тамара тех женщин, которые бросали все ради любимого. Хорошо понимала!
А теперь спокойной была. Андрей вошел в ее жизнь в пору весны, половодья, а сейчас, кажется, зима, и все замерзло. Не один год жила им одним, вспомнить только — хмель! А с Сашей все решилось в месяц — за время его отпуска. Увидела его, показался чем-то похожим на Андрея, и понесло…
Другая сейчас жизнь началась. Все у нее есть, чего еще хотеть?
И кажется, никуда бы не ушла теперь из своей теплой квартиры, не нарушила бы ничем трезвого, размеренного порядка…
Она гладила белье, а за ее спиной на тахте сидел Саша с Алинкой.
— Тома, кто такой Экзюпери? — поинтересовался он как бы между прочим.
Она не удивилась вопросу — не любил муж литературу.
— Был такой писатель, французский, летал еще.
— Не он летал во времена Нестерова?
— Ты что! Это другой кто-то. Экзюпери во время войны не вернулся из полета.
— Вот черт! А я думал, это один и тот же. Ладно, пусть Егоров разбирается — это его дело.
Тамара знала: с начальником политотдела праздных разговоров не бывает.
— А что случилось? — насторожилась она.
— Да ничего особенного. «Правака» своего ставил на место.
Сердце ее отозвалось резким, сдвоенным ударом.
— Хрусталева, что ль? — Она продолжала замедленно водить утюгом, не решаясь повернуться к мужу.
— Да, его. Ты знаешь, как поволок он на меня сегодня! Поставил все с ног на голову. Палихова стал защищать — помнишь, статью его читали?
— Помню. — Тамара поставила утюг на подставку, выдернула шнур. — Ну и что?
— Как что? Сомневался в объективности наших характеристик. Жизнь мою стал предсказывать, буржуазного писателя в пример ставить. Что, у нас своих героев нет?
Он поднялся, держа на руках Алинку. Глаза у нее были карие, отцовские, а сама белокурая — сидела на руках у отца этаким пушистым одуванчиком.
— И ты был у Егорова?
— Был. А Хрусталев там завтра будет.
Знала Тамара, что муж ее пользуется особым расположением начальника политотдела, но сейчас ей это стало почему-то неприятно. Очень уж как-то нехорошо он усмехнулся.