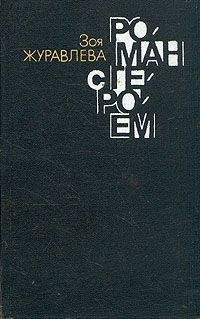Почти так же неизбывно, как кристалл граната (и все по той же, по-видимому, причине: попроще, рядом лежит), меня волнует идея параллельного мира. Параллельный мир идет с нами рядом, дышло в дышло, ноздря в ноздрю, может — в каком-нибудь сантиметре от моего носа, от вашего. Он отделен лишь энергетическим барьером, который мы пока не прорвали. В параллельном и сладостном мире, по слухам, царят суперскорости, сверх-сверх-световые. Там черепаха несется быстрее фотона, а об Ахиллесе — страшно даже подумать. Вот бы порадовался Зенон, навеки вонзивший в наше сознание эту парочку! Его знаменитая апория обрела бы в том мире динамичность, достойную своего философского содержания. А наши космические корабли, прорвавшись в тот параллельный мир, домчали бы нас до какой-нибудь Альфы-Центавра скорее, чем ИЛ-62 от Москвы до Звенигорода, пока же эти несчастные четыре световых года, отделяющие нас от Альфы-Центавра, надо трястись неведомо, лень даже считать, сколько лет. Мне, правда, на Альфе-Центавра ничего не нужно, что я там забыла. Но душа обмирает от всесилия и всевозможностей, которые распахнутся перед человечеством.
Для меня в параллельном мире нет личной корысти (лично мне, повторяю, хватает и наших скоростей, я больше всего люблю грузовик, чтобы стоять в кузове, подпрыгивать на ухабах и ветер бьет в лицо), но я о нем часто думаю. Мне сдается, что при тамошних скоростях, как бы безмерен и бесконечен этот параллельный мир ни был, им (неизвестно — кому, но кому-то) там давным-давно уж, наверное, тесно, всё уж, поди, излазили-излетали. Даже если мы все-таки не сумеем в ближайшее время одолеть разделяющий наши миры барьер, то они (неизвестно — кто, но ведь кто-то же), по-моему, сами его пробьют, чтоб поглядеть, как — у нас. Это может случиться в любой момент. Энергетический барьер — очень тонкая стенка. Зачем ему быть толстым? Энергия не нуждается в крупных габаритах, это не поезд, чтоб — пыхтя — втискиваться в тоннель где-нибудь под Альпами. Энергия всесильна и экономна.
Мой дом, к сожалению, старый, гвоздь надо забивать кайлом, годами не слышишь посторонних звуков от братьев по разуму и по лестничной клетке. Но есть же и современные дома! В них, полетных и блочных, проткнуть энергетический барьер, естественно, легче: там стенки тоньше, где тонко — там и рвется, учит народная мудрость. Так что если вдруг среди ночи вы в своей малогабаритной квартире услышите настойчивый и неуемный стук в стену, не спешите грешить на соседей и колотить в ответ шваброй в потолок. Очень может быть, что это — вежливый знак из параллельного мира (где суперскоростям, конечно, соответствует супервежливость, которая мешает войти, не постучавшись) и своим неэтичным поведением вы этот мир оттолкнете, чем задержите прогресс на века, прогресс нежен, сбить его с толку ничего не стоит…
Вздрогну, словно каменка-плясунья, пораженная ударом в сердце, что бывает с ней при каждом вскрике, с каждым вскриком каменка-плясунья словно на дуэли умирает, а сама жива и весела. Вскрикну, словно каменка-плясунья, дернусь и умру сейчас взаправду. Все, небось, ужасно удивятся, и никто не будет знать причину.
Если сейчас и помру, то исключительно от стихийного удовольствия. Вдруг начисто пропало корпускулярно-телесное ощущение себя. Я теперь только «волновой пакет» Шредингера, волны-Я расходятся от меня же (значит, я каким-то образом все-таки в центре себя же?) бесконтрольно, легко и гибко, запаздывающие Я-волны (это Я-круги, которые разбегаются по глади пруда-мира от плюхнувшего туда Я-камня), опережающие Я-волны (я все так же плюхнулась в пруд, но от меня даже ряби нет, а от берегов почему-то бегут ко мне сходящиеся в меня, как в точку, Я-волны, никто такого пока не видел, но теория это допускает, а я сейчас шире всякой теории, не говоря уже о практике, что всегда есть лишь частный случай), гармоничные Я-волны, и смазанные, и любые другие. Каждая волна-Я сейчас образ, он как бы взбит на моем же волновом загривке крутящейся пеной, мне всевластно и весело на себе-волне, пусть несет меня неостановимо. Только образ для меня информация (которую тоже еще неизвестно — как здесь и определить: новизна? некий сдвиг красок, звуков, идей, отношений, времени?), и только потом, когда я устану нестись (понятия не имею — когда, сейчас, может?), я все это как-то объединю и чего-нибудь пойму.
Так бывает, когда врежешься в новую для себя область знаний, нырнешь в нее, как в бездонный колодец, и поразишься вдруг ее таинственной глубине и затягивающей тебя все глубже, словно всасывающей тебя, ее силе. Так бывает, если запечатанная семью печатями до того, новая для тебя наука вдруг на миг, на самую крошечную свою крошечку приоткрылась тебе, чтобы снова, может, недоступно замкнуться навеки. А ты уже отравился, уже все равно пропал, никогда себе не простишь, что не сделал именно ее делом своей жизни, не почуял раньше, может — мимо своего счастья прошел. И не утешает, что ведь не разорваться, что жизнь — одна и что ты — один. И в поездках так часто бывает, когда заглатываешь впечатления, не успевая осмыслить их, а наслаждение непонятным острее и ярче логического понимания, словно горячий ветер неведомого обжигает душу, и память трещит, как такыр в жару, ничего уже не вмещает, не можешь больше слышать-видеть-чувствовать-воспринимать, а, как выясняется много позже, иногда — через годы, все запоминаешь в наиподробнейших подробностях, навеки и чуть ли не генами. Так бывает, когда прорвет белый лист, будь неладен он и благословенен.
Какой прелестный кирпич подобрала я мимоходом на махровой тропе штампов: «горячий ветер неведомого», наше — нам с кисточкой. Поражает дисгармоничной свежестью также «область знаний», но тут уж не знаешь, как вывернуться, чтобы без этого.
Когда работаешь, время летит быстрее, ибо внутри себя живешь на релятивистских уже скоростях. Стоп. Тут у меня вроде противоречие с Эйнштейном, поскольку с приближением к скорости света время, наоборот, замедляется. Однако противоречие это кажущееся. Поскольку стремительно летит лишь твое субъективное время, а то, обычное, что волнует сейчас других и связано с побочными для тебя сейчас факторами и фактами, просто перестает существовать, оно засахаривается, как мед, застывает и уже не имеет власти коснуться тебя ничем. Из длинной работы выходишь поэтому моложе того, кто все это время сидел без дела и тихо вкушал радости жизни. Так, по-моему, реализуется известный парадокс близнецов в рассматриваемом конкретном случае: бездельник стареет быстрее.
Утопаю в терминах умственных наук, словно — в римских термах крошечный паук. Зачем же насекомое полезло в неведомое?..
Слову как таковому исконно присущ дебройлевский дуализм: частица-волна. Как частица слово являет себя в самом распространенном и до оскомины обычном значении. Нам-то это значение необходимо, куда мы без него, но бедняга-слово тут как бы клочок изначально вольной земли, сбитой расхожими ногами до плотности асфальта. Кажется, ему самому уже невыносимо значить, и значить, и значить одно и то же. Когда в разговоре мелькают только слова-частицы, хочется удавиться от серой скуки. Но, слава Аллаху, слово еще и волна, а волну не удержишь. Волновая природа слова пробивается малейшим сдвигом смысла, синонимом, сравнением, метафорой, простой инверсией и общим дыханием контекста. Волновое поле вероятностных смыслов любого слова неисчерпаемо и безбрежно, слово — это пространство. А попробуй-ка овладеть пространством! Чтобы овладеть даже одним-единственным словом — любым, — требуется весь твой жизненный опыт, весь культурно-эмоциональный багаж, только тогда ты сможешь свободно купаться в волнах его смыслов, плавать в этой бездонности кролем, брассом, по-лягушачьи и лежать на спине, считая звезды, только тогда можно выразить мысль максимально эквивалентно мысли, остановить словом миг, накинуть лассо на чувство и бережно вытянуть это чувство из глубины себя, чтоб другие его ощутили…
Я слышу, как мои слова, Его души не достигая, едва касаясь внешним смыслом Его ушей, мертвеют, съеживаются, теряя живые краски, и медленно, с сухим потрескиваньем, как последние листья осенью, падают на тротуар и корчатся там в пыли, умирая под ногами идущих за нами прохожих. Я чувствую, как им больно, знаю спиной — до мурашек, — что они умирают слишком долго, скорей бы уж, что ли. А Он подтянут и деловит, ничего не слышит. Впрочем, я тоже уже молчу. Но даже молчание мое теряет рядом с Ним полноту и краски, упругую напряженность теряет, оно тоже тускнеет и обессмысливается. Даже молчание мое не достигает Его души. И не приносит моей облегчения. И умирает сейчас прямо во мне, ведь молчание — это еще не родившиеся слова, глубина его бесконечна. А значит — и умирать оно может во мне бесконечно, то есть вечно. Как страшно! Счастье Его, что Он ничего не слышит! Я цепенею, вышагивая с Ним рядом. Но и это «рядом» — неодолимо. Вот что такое Пространство, вдруг ощущаю я: бесконечная неодолимость даже мельчайшей крошечности. Но ведь Слово — тоже Пространство, и даже одно-единственное тоже неодолимо и бесконечно, это-то я знаю. Он — рядом, и даже Он — не слышит, значит, мне просто нечего сказать, я пуста, я ничего не могу, я никогда ничего не смогу, никогда-никогда, ничего-ничего, иначе бы Он — услышал…