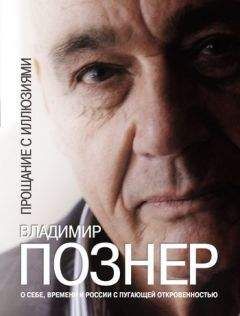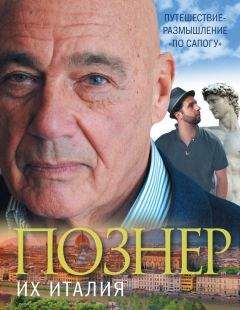— Вот мы и обсуждаем… Как твое мнение?..
Душа Аляпышева сорокопудовым свинцом упала в ночи, потянула его всего вниз. Неужто согласятся? Неужто Зайцев? — Зайцев против, но у него жена и двое детей, которых надо защитить, убьют ведь их, если он не сдастся. И Пелевин? Пелевин, тот против, но раз все, так что ж ему одному делать? А Павлушка Зайцев, перестрелявший всех раненых человеков на площади, уж больше не орет и не смеется. Он дрожит. Он хочет жить: ведь он человек.
Аляпышев думает теперь об одном, об одном только: Коля. И Коле, значит, смерть, шестилетнему. Он-то чем виноват? Ребенок ведь…
— Ребята!.. Идите!.. Ваше дело… Только когда там будете, скажите… Зачем мальчика-то. Ребенок ведь… Скажете?.. Пелевин, ты…
Аляпышев забавно хрюкает носом, но никто не смеется. И Пелевин тоже захрюкал, а Иван Зайцев смотрит в сторону, ему не до того: живы ли они — жена и дети?
— Прощай, тов. Аляпышев!
— Прощайте… Так вы… вы помните! Ребенок ведь…
Пошли к выходу. Последним шел Пелевин. Уже вышел, но вернулся, подошел к Аляпышеву и поцеловал.
— А ты, Петька, ничего… Обойдется… Ты не бойся…
В щель между оконной рамой и матрацем смотрит Аляпышев и видит: толпа подалась вперед. Уже известно в толпе, что сдались кровопийцы.
Из дома Совета выходят тринадцать человек. Оружия нет, руки вверх. Впереди всех — начальник отряда Хлебосолов, идет грузно, глупо, как всегда. Последним — Павлуша Зайцев, человек, он боится. Но весело идти руки вверх, так весело!..
Дошли до толпы, толпа смолкла и расступилась. Пошли в толпе, руки все так же вверх.
Но потому ли, что кто-то из отряда задел кого-то из толпы, или потому, что кто-то из толпы задел кого-то из отряда, но только кто-то ударил кого-то, крикнули оба, и в ответ зверем взревела толпа:
— Бей! Чего смотришь? Бей! — И навалилась.
Хотел Хлебосолов крикнуть, что это же против правил, что так поступать не манер, — но не успел, потому что упал. Он еще дрался на земле и слезливым голосом молил о пощаде. Пелевин тоже дрался, но молча. А Зайцев Иван, агитатор 1-го разряда, как упал, так и затих. Умер, думая о жене и двух детях и не зная, что жена и двое детей убиты.
Павлушка Зайцев, человек, шедший последним, вырвался из толпы и побежал, плача. Но, споткнувшись, упал. Толпа догнала его и прикончила. И никто не подумал, что он, Павел Зайцев, — человек.
Огонь со служб перекинулся на здание и с веселым хихиканьем, подпрыгивая и потрескивая, побежал по сухому старому дереву, — дом Совета был старинный дом, дедовский.
На улице перед домом становилось жарко. Но толпа не расходилась и не отступала. Ждала жадно — когда изнутри первый крик.
А внутри было жарко и дымно, и Коля жаловался, но пока что терпел. Аляпышев готовил на керосинке яичницу для Коли.
Значит, смерть… А помнишь ли, как в медовый месяц ты с женой был в Парголове на пожаре, и тоже было жарко?
Да, Аляпышев помнил, и ему было стыдно, потому что он вспомнил еще, как, стоя в глазеющей толпе, он обнял жену за талию и поцеловал в голую шею. И смеялся… А теперь он сам горит, а они в толпе смеются…
Значит, смерть… Ну, так что ж: смерти не миновать. А загробная жизнь? Какая там загробная жизнь? Глупости! Попы народ дурачат, и больше ничего…
А помнишь ли ты, Аляпышев, как отец твой умирал? — Помню. Помню, как приезжал священник, и я спросил, зачем священник, и мне сказали: причащаться. А все-таки, зачем священник? Зачем причастие? Разве Бог есть?
Есть, есть. Смотри, Он на стене. А вот я Ему прострелил глаз, и ничего. Нет Бога.
А все-таки отец перед смертью причащался, и мать причащалась, и дед, наверно, и прадед. Ты, Аляпышев, первый безбожник. И пусть…
Но если Ты есть, Господи, так прости меня, не за меня, нет — за мальчика. Слышишь? Если Ты есть — спаси! Слышишь?
И еще раз:
Если Ты есть — спаси!
И только подумал — какая-то заблудившаяся пуля попала в Колю. Слабо, но четко закричал мальчик…
VI
Толпа волновалась: надоело ждать, а жара свыше сил. Этак здесь на улице раньше сгоришь, чем в доме. А Аляпышев не орет, ишь живучий черт.
И вдруг: а-а-а-а!
Победное, долгожданное, радостное: а-а-а-а! Вот оно! Дождались! Из горящего дома слабый, но пронзительный, четкий Колин крик…
— Вот он, черт!.. Стреляй, ребята! Не надо стрелять… Стреляй, ребята! Пусть горят! Эй, не надо, не надо!.. Ишь сволочь… Мальчонок-то!.. Что, жарко? А расстреливать не жарко? Черти! Стреляй, ребята! Не надо!
А крик мальчика медленно, но верно рос. И вдруг кто-то, чуть ли не сам унтер Гузеев, сказал тихо-тихонечко: «Ребенок ведь!» А за ним кто-то другой: «Ребенок ведь!» — и третий кто-то уж погромче. И неизвестно, чем бы это кончилось, если б к Колиному крику не присоединился другой — отцовский. И в ответ яростно и весело взревела толпа:
— Хо-хо-хо! О-о-о! О-о-о!
Как ни хохотала, как ни орала толпа — Аляпышев не слышал ее. Он слышал одно: свистящий, сверлящий крик, крик о помощи, Колин крик, Коли, который у него, у отца, на руках, а руки в крови, и Коля в крови, и Бог не помог…
Что делать? Хотя бы убили ребенка! Хоть бы убили, а то так…
— Коленька! Что с тобой? Что, мальчик? Что?
Чем помочь? Разве поможешь? Пусть он не кричит! Пусть не кричит!
— Папа! Папа! Папа!
— Коля! Хочешь молочка? Хочешь? Нет? — И совсем ненужные мысли, откуда-то взявшиеся, полезли в голову: о том, что молоко полторы тысячи бутылка, но он, как председатель Совета, получает его бесплатно… К черту это! Зачем он думает об этом! Что делать с мальчиком? И приносят молоко крестьяне, вроде взятки, что ли… Что делать с мальчиком, что?.. Но он берет молоко, потому что Коля… Коля! Коля! Коля!
— Па-а-па! Папа! Папа!
Серенький, маленький такой язычок выглянул через дверь: здравствуйте. Это пришел огонь. И слава Богу! Только скорей, ради Бога, скорей. Я не могу больше вынести этого крика!
И схватив кольт, Аляпышев трижды выстрелил в сына. Три раза стрелял в упор с двух шагов и три раза промахнулся. И пронзительный тоненький крик креп, рос, пронзал насквозь и жужжал, жужжал…
И осталось одно: убить себя.
Но чем убить? В комнате, окруженной огнем, держа в руках заряженный кольт, Аляпышев не знал, чем убить себя. И, бросив по землю образ, он повесился на том самом крюку, на котором висела икона.
А на улице шумела толпа. Но как ни хохотала она, как ни кричала, еще сильней был сверлящий, тонкий и отчетливый Колин крик:
— Папа! Папа! Папа!
И опять кто-то, чуть ли не сам унтер Гузеев, сказал тихо-тихонечко: «Ребенок ведь!» А за ним кто-то другой: «Ребенок ведь!» — и третий кто-то уж погромче. И толпа стихала, а крик мальчика все рос, рос и рос…
Назавтра утром из губернского города пришел карательный отряд и расстрелял сто с чем-то человек. Так и сказано было в газете: «сто с чем-то». Руководил расстрелами секретарь Совета Простаков.
Май 1921 года
От беды не отбожишься; что суждено, тому не миновать.
«Станционный смотритель»
Так замело лесные проселки — пусти роту кованых молодцов в чугунных сапогах — и им не умять, не провести дороги. Застрянут. Чесаным снежным льном забух лес, подмигивает, поскрипывает, и под солнцем вдруг щелканет ухарски; красногрудки в ответ ему чирикнут. Сладко веет осиной мороженой, хвоей. Солнце щедро раскидало из богатых амбаров своих румяные снопы. В воздухе песня: снег сойдет, вода сбежит, скоро-де пахоть — пар, скоро-де копать черный жир!
А какой тут жир: свеяжская-то заболоть да тусклый суглинок.
— Ты что плачешь? Ты не плачь. Что же ты плачешь, мальчик? Стой, мальчик.
А сочное пышное солнце трясет животом — покатывается со смеху, глядя, как внизу в сугробе завязли дровни, лошадь по брюхо парится в мягкой перине, мальчонка рукавицей мажет сизый нос.
— Что ты плачешь? Я тебе говорю, поезжай обратно.
Человек в финке, меховой куртке и черных брюках перекинул кнутишко плакуну.
— Опять… Я же говорю, что останусь. А ты выбирайся до деревни. И скажешь, чтобы прислали за мной. Э-э, марш, в два счета!
— А попадет мне… Обязательно доставь, а то говорит, а я — нет… И мамка тоже.
— Э… э…
Финка щиплет мальчишку за нос.
— Отморозил, кажется. Живо, живо! Ничего не будет. Я скажу. Понял! Э, живо! Как поедешь? Ты не запутаешься?
— Запутаешься… Что я… Вон по вешкам я, вон торчат, а туда замело. Назад-то по вешкам; запутаешься…
Жмется нос.
— …скажешь!
— Так нечего, марш!
Мальчишка взял лошадь под уздцы, вывел на прослеженное, уселся, рукавицами хлопнул — да в крик: