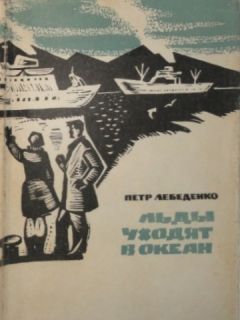Они работали уже седьмой час. Седьмой час люто мерзли в своих железных, накаленных морозом кабинах, забыв о времени, об отдыхе, обо всем на свете. Самым трудным оказалось бороться со снегом. Сон сковывал не только тело, но и мысли. Все чаще наступало какое-то бредовое состояние. Лучи прожекторов вдруг казались лучами жаркого солнца, и, если бы можно было на двадцать — тридцать минут устроить перерыв, первым делом, конечно, каждый из них спустился бы на землю и, согретый этим солнцем, немедленно уснул…
Свист ветра был похож на свист свирели. Мягкий и убаюкивающий. Прислушиваясь к нему, Ваненга видит весеннюю тундру. Олешки мирно пощипывают ягель, дремлет мать, и, уютно устроившись около нее, сладко спит Райтынэ. Хорошо, однако. Хорошо бы и ему лечь рядышком и уснуть…
Степан склоняет голову на руки, закрывает глаза. Но снизу доносится, как выстрел:
— Вира давай!
…Облако снега на минуту застилает землю. Саня Кердыш не может оторвать от него взгляда. Это идет волна. Крутая волна. Она поднимет его сейчас, потом бросит вниз, потом снова поднимет. «Самое лучшее, — говорит боцман, — это спать. Тогда не страшно». Конечно, спать!
— Эй, там, майна! Майна, тебя просят! Не слышишь, что ли?!
Саня усилием воли сбросил с себя сонную одурь. Проследив, как тросы с бревнами опустились к земле, он выключил мотор. Сейчас, пока там, внизу, будут возиться с лесом, можно выкурить трубку. Хорошо, черт возьми, затянуться пахучим дымком и погреть о горячую трубку закоченевшие пальцы. Шибко хорошо, как говорит Степа Ваненга.
Налетел шквал, ударил в кабину. Закачалась земля — кабина вновь будто взобралась на гребень волны, упала вниз и опять взлетела вверх. Но Саня не почувствовал даже признаков тошноты. Значит, недаром он каждый день ходил в спортзал тренировать свой вестибулярный аппарат. Еще год назад от такой «качки» его, наверное, стало бы мутить, а сейчас он даже не обращает внимания. Значит, он уже готов и не к тому! Значит, можно снова попробовать… Вот только бы мороз полегче.
Когда сон валит от усталости — это еще полбеды. Такой сон можно перебороть. В конце концов к человеку приходит, как при беге на большую дистанцию, «второе дыхание». И кажется даже странным, что всего четверть часа назад непреодолимо тянуло положить голову на руки и закрыть глаза. Тело становится бодрым, мысли свежими. Снова можно работать с полной отдачей, будто и не было никакой усталости.
Но когда сон наваливается оттого, что кровь человека медленно и совсем незаметно начинает застывать от стужи, — это страшно. Это как наркоз: не остается ничего, что может встряхнуть, поднять из каких-то неведомых глубин, куда человек стремительно падает. Спасти может только воля, если она есть и если она сильнее, чем действие неощутимого наркоза.
Однако наступает момент, когда даже и сильный духом человек вдруг перестает владеть собой. Кому хоть раз в жизни доводилось замерзать, тот знает, что это такое. Вначале все твои чувства обострены до предела. Ты думаешь только об одном: ни одной секунды без движений. Если нельзя ходить, надо топать ногами, размахивать руками, сжимать и разжимать пальцы, в общем — все что угодно, только не оставаться неподвижным. В этом спасение. Приходят на память десятки случаев, о которых ты слышал: один замерз потому, что разрешил себе «маленько передремнуть», другой присел на минуту перекурить да так и застыл с папиросой в руке, третий прислонился спиной к дереву, закрыл глаза, задумался, вспомнил, может быть, о чем-то хорошем из своего прошлого — его нашли с застывшей улыбкой на губах.
Нет, нет, нельзя поддаваться этому страшному наркозу, надо быть все время начеку.
Быть все время начеку… Это очень утомляет. Словно ты выполняешь тяжелую работу или решаешь трудную задачу. У тебя возникает желание послать все к черту, закрыть глаза и хоть на минутку забыться. Хорошо ведь подумать о теплой печурке, в которой полыхают сухие березовые дрова, о горячем песке у синего моря, где ты когда-то лежал, подставив спину солнцу… Плывут пароходы, летят чайки, шумят волны…
Проходит минута, другая — время становится нереальным. Все, что было давно, кажется не прошлым, а настоящим. Все словно происходит сейчас. Ты и не спишь, и не бодрствуешь — ты замерзаешь. И пока не поздно, встряхнись. Выйди из оцепенения, иначе… Иначе ты никогда из него не выйдешь.
Первым сдал Деда. Он видел, как грузчики закрепили тросами бревна, слышал, как крикнули снизу:
— Вира давай!
Деда включил подъемный механизм. Бревна пошли вверх. Ярко светил прожектор. Деда видел, как сыплется снег, сдуваемый с бревен ветром. Видел, как человек восемь рабочих почти повисли на тросах, пытаясь удержать тяжелый груз прямо под стрелой, но ветер раскачивал его, и людям приходилось туго… Крановщик сказал самому себе:
— Стоп!
И выключил механизм. Бревна повисли в воздухе. Деда включил рычаг — и стрела начала разворачиваться к штабелю.
— Стоп!
Он остановил кран.
— Майна!
Этого он уже не слышал.
— Майна-а-а!
Нет, Деда ничего не слышал. Почти четверть вагона леса раскачивалось над землей, ветер свистел в тросах, в фермах крана, снизу сразу в два или в три мегафона кричали: «Майна-а!», а крановщик не подавал никаких признаков жизни.
— Всем выйти из опасной зоны! — приказал стивидор.
Он, по всей вероятности, понял, что произошло с крановщиком. Надо было принимать срочные меры, но какие — стивидор не знал.
Распорядившись вызвать врача, Велоян отошел в сторону и, прислонившись к куче досок, закурил. На минуту его самого охватило оцепенение — от усталости, от холода, от многих бессонных ночей. Если бы на его плечах не лежала ответственность за все и за всех, он упал бы прямо вот здесь, на доски, и заснул. Заснул бы таким сном, что его не разбудила бы и пальба из пушек.
Белоян не заметил, как закрылись его глаза и как в голову полезла всякая чертовщина. Двоюродный брат Вартан вдруг высунул голову из башенки крана и ни с того ни с сего сказал: «Слушай, Арам, я дам тебе на память глыбу льда от Арарата. Хочешь, дорогой?» Засмеялся и исчез. А на его месте появился начальник станции. Этот кричал: «Мы вам вправим мозги за вашу нераспорядительность!»
— Идите вы к черту! — резко сказал Белоян. — Не до вас! — И очнулся.
Перед Белояном стоял молодой человек с небольшим саквояжем в руке.
— Я врач Смолич.
— Прости, это я не тебе. — Он бросил в снег погасшую папиросу и внимательно посмотрел на Смолича: — Скажи, можешь совершить подвиг? Скажи прямо.
Смолич в недоумении пожал плечами.
— Не понимаю.
— Подняться вон туда. — Арам Михайлович протянул руку в сторону башенки, где был Деда. — Подняться туда и привести человека в чувство. Он, наверное, заснул. И может замерзнуть. Понимаешь?
— А кто вам разрешил посылать людей на кран в такую погоду? — возмутился врач. — Насколько я знаю инструкции… Вы взяли на себя большую ответственность.
— Все ясно, — сказал стивидор. — Ты, дорогой, никакого подвига никогда не совершишь. Ты будешь жить долго, как черепаха. Дай-ка мне фляжку со спиртом, а сам пойди посиди в вагончике. Тебя позовут, когда надо…
Белоян говорил спокойно, без зла. Он даже и не смотрел на Смолича. Развязал башлык, снял тулуп и, оставшись в одном ватнике, пошел к крану…
Деда сидел неподвижно, свесив голову на грудь. Руки его лежали на рычагах. Бородка заиндевела, на щеке застыла не то слезинка, не то капля воды.
Стивидор осторожно встряхнул его за плечи, позвал:
— Товарищ Сидоренко!
Деда не двигался. Только руки его отпустили рычаги и, как плети, упали на колени.
— Деда! — закричал Белоян. Ему вдруг показалось, что крановщик уже мертв. И стало страшно. Он снова его встряхнул и закричал: — Деда!
Сидоренко тяжело приподнял веки, посмотрел на стивидора мутными, ничего не понимающими глазами. У Белояна отлегло от сердца.
— Слушай, дорогой, — сказал он, — прошу тебя, очнись, пожалуйста. Совсем очнись. Нельзя так, понимаешь?
Сидоренко сонно покрутил головой: ничего, мол, не понимаю. И опять уронил голову на грудь. И закрыл глаза.
Стивидор вдруг вспомнил о фляжке спирта, которую взял у врача. Вытащив ее из кармана и откупорив, он поднес фляжку ко рту крановщика, сказал:
— Пей, дорогой. Пей, пожалуйста.
Деда глотнул раз, другой, поморщился и снова глотнул. Посидел две-три минуты, протянул руку:
— Дай еще.
Спустились они вместе. Уже на земле Деда спросил:
— А все остальные? Работают?
— Пока работают, — ответил Белоян.
— Значит, один я?
— Всем тяжело. — Белоян взял Сидоренко под руку, повел его к вагончику. — Не учел я, понимаешь? Надо было посменно: трое — на кранах, трое — спят. Правильно?