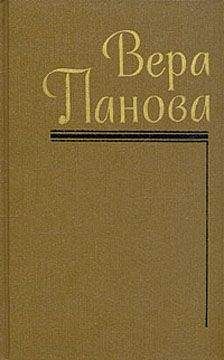— Общее переутомление всего организма, — сказал Толя.
— Перестарались, — сказал Коростелев.
Пришлось ослабить кормление. Удой сразу резко уменьшился, дошел до двадцати — двадцати двух литров в сутки и на этом остановился. Двадцать два литра — это ничего себе; значит, за лактацию можно получить тысяч пять литров, но, откровенно говоря, Нюша ожидала большего…
Холмогорка Стрелка тоже вскоре должна была отелиться. Стрелка большая, видом неказистая корова, очень тихая, но с причудами: не по вкусу ей корм — она не мычит, не бунтует, но опустит голову, стоит как бы задумавшись и к корму не притронется. Нюша раньше сердилась на Стрелку за капризы и говорила: «Нечего дуться, ешь, как все едят!», а теперь Нюша стала опытнее и понимала, что каждая корова требует особого подхода. Взять ту же Грацию: ей, Нюше, Грация дает двадцать два литра, а придет Нюшина сменщица — Грация ни за что больше двенадцати не отпустит… Звездочка любит, чтобы сначала подоили ее соседок, а ее уж после всех. Крошка любит, чтобы с нею разговаривали, когда ее доят. Чего они мудруют, эти коровы, кто их знает, но приходится им угождать, если хочешь побольше получить от них.
Нюша стала готовить Стрелку к раздою сразу после запуска: чем упитаннее корова к отелу, тем больше даст молока. Только бы опять не зарваться, не перекормить, а то может сделаться ожирение молочной железы.
Концентратов Стрелке не выписывали, кормили ее сеном, мякиной, свеклой, силосом. За силосом Нюша теперь смотрела в оба, выбрасывала комья, нюхала: если пахнет хорошо — вином, печеным хлебом, мочеными яблоками, хлебным квасом, — значит, хорош, можно давать бесстрашно. Мякину она готовила так: запаривала горячей водой, клала дрожжи, а перед тем, как скормить, перемешивала с мелко нарезанным турнепсом. Солому за сутки до скармливания перестилала силосом, чтобы стала помягче.
— Цельную поварню развела для скотины! — говорила сменщица, ревновавшая, что Грация выдает Нюше молока больше, чем ей.
— Ну что тебе надо? — спрашивала Нюша у Стрелки. — Почему не ешь?
Стрелка смотрела на нее и не прикасалась к резаной свекле, насыпанной в кормушку.
— Может, целенькой захотела? — спрашивала Нюша и подкладывала целенькую. Стрелка забирала свеклу губами и принималась жевать.
— Мудровщица! Каждый день чего-нибудь вздумаешь. Царствовать хочешь надо мной.
Сорок шестой год Нюша закончила с приличными показателями: надоила сверх плана восемьсот восемьдесят три литра. Это почти девять центнеров, а девять центнеров — это почти тонна. В передовые стахановки Нюша с этими показателями не попала, но все-таки кое-кого оставила позади себя, в прошлые годы этого не было.
— Растешь, Нюша, — говорили доярки.
— Расту, — тоненько отвечала Нюша.
«Да, вот расту. Глядите, как бы вас не переросла».
«Если бы я вышла замуж за Иннокентия Владимировича, — думала Марьяна, — надо ли было бы, чтобы Сережа называл его отцом? С одной стороны, Сережа знает по карточкам настоящего отца, он скажет: какой же это папа, вот наш папа, на карточке, совсем не такой… Но, с другой стороны, так хорошо, когда ребенку есть кому сказать: папа. Так хорошо, когда в доме есть папа, отец, самый главный человек, опора семьи…»
Началось с того, что иногда летом Иконников подходил к Марьяниному окошку и разговаривал с нею. Однажды он сказал шутливо:
— Когда же вы пригласите меня к себе?
Марьяна смутилась и пригласила. Иконников пришел в условленный вечер, пил чай, спросил у Сережи, сколько ему лет и когда он пойдет в школу, сказал:
— Очень развитой мальчик.
Он являлся два-три раза в месяц. Сидели, пили чай, разговаривали. Марьяна уходила уложить Сережу — Иконников разворачивал газету или брал книгу с полки и читал, пока Марьяна не возвращалась.
Иконников?
«Он красивый, интеллигентный, — думала она, настраивая себя на эту волну, которая называлась — любовь и замужество. — Видимо, очень порядочный: сколько лет в совхозе, и никто никогда ничего дурного о нем не сказал…»
Он приходил. Уходя, спрашивал:
— Разрешите мне заходить и в дальнейшем, когда позволит время?
— Да, конечно, — отвечала она с смешанным чувством удовольствия и неприязни (отвратительное, гнетущее чувство!). — Пожалуйста, мы будем очень рады…
— Иннокентий Владимирович, вы были когда-нибудь женаты?
Он сощурил белые ресницы с таким выражением, словно припоминал: был он женат или не был.
— Да, был. Один раз. Очень давно. Это была ошибка молодости.
Больше он не счел нужным распространяться об этом. Он тогда работал в другой области, в городе, в земельном аппарате. Его жена была фабричная девчонка, картонажница, но пронзила ему сердце красотой. (Он не был равнодушен к таким вещам.) Прожили год, неважно прожили: его оскорбляла ее простецкая речь, берет набекрень, шумный хохот, она почему-то выходила из себя от каждого его слова. Через год она его бросила, обозвав на прощанье бюрократом, слизняком и совсем уже грубо — занудой. Детей, к счастью, не было.
Больше Иконников не женился — стал осторожен. Это опасная игра: за временное увлечение, за ошибку, по сути дела, закон и общество возлагают на человека громадную ответственность…
Теперь он укололся, так он выражался мысленно, о красоту Марьяны. Пугался этого чувства, боролся с ним. Давал себе зарок: больше не пойду, мальчишество, блажь, зачем мне это, мне и так хорошо, даже несравненно лучше… и шел.
Приходил в милый дом, где была женщина, к которой его влекло, смотрел на нее и ее ребенка и думал: «Нет, невозможно, ужасно — добровольно взять на себя такую ответственность. Если бы она согласилась просто так…»
Но он не мог предложить ей этого просто так, — она была защищена своей чистотой, своей профессией, своим Сережей, именем своего отца, любовью двух стариков, живших около нее. «Пожалуй, это было бы еще хуже. Не оберешься неприятностей».
Придется жениться.
Тут с первого дня встанут сложные вопросы. Прежде всего — где жить после женитьбы. В ее доме? Далеко от совхоза. Он привык, что из дому до конторы — три минуты ходьбы, это такое удобство. Привык к своей опрятной комнате в общежитии. Ее мальчишка будет все трогать, брать его книги с полок…
Жить с нею в общежитии? И мальчишка там же? Невозможно.
Идеально было бы под разными крышами. Муж и жена, пожалуйста, все законно и оплачено гербовым сбором, но для удобства живут под разными крышами…
Она не согласится.
И чтобы Сережа отдельно — тем более не согласится.
Поди тут решай — как быть.
И где гарантия, что через год-два она будет так же мила ему?
А между тем он все больше накалывался на эту булавку. С трудом заставлял себя уходить. Вот-вот скажет лишнее… Как нарочно, она становилась все красивее. Похудела, ей шло.
«Я гибну», — сказал себе Иконников.
В конце декабря он поехал в областной центр в командировку. Там встретился с знакомыми из облзо, ужинал с ними в ресторане, и они стали звать его на работу в областной аппарат. Пора ему возвращаться в город… Не отпустят? Это можно устроить, было бы его согласие. Иконников отшутился: куда ему в город, он привык к сельской глуши, его здесь задавит трамвай… но про себя серьезно задумался.
Если он безнадежно запутается в своих брачных делах — переезд в город, на другую работу, будет самым лучшим выходом.
Как-то Марьяна спросила:
— У вас есть карточка вашей жены? Покажите мне как-нибудь.
— Зачем?
— Мне интересно.
Что это значит? Конечно, она не может не придавать значения его визитам — все кругом, должно быть, уже придают значение… «Но если я принесу карточку, не примет ли она это за залог сердечной интимности? Кажется, я пока не дал никакого повода…»
Все-таки он принес карточку. Марьяна взяла ее с интересом. С карточки глянуло веселое молодое лицо. Лукавый прищуренный глаз как бы подмигнул Марьяне: эй, сестра, поберегись! Ничего тут хорошего не будет…
Скорей всего именно так.
Да, по-видимому, не ждать ничего хорошего, какой он ни будь интеллигентный и порядочный.
Уж потому не ждать, что нету в ней самой беззаветного радостного чувства, которое она испытала когда-то. Смотрит равнодушно и рассуждает.
Там была любовь, а здесь тоска по гнезду, желание свить гнездо.
Стыдно, Марьяна Федоровна.
Почему стыдно?
Потому что без любви. Вам хочется подойти к нему, прикоснуться? Узнать, как он прожил эти дни без вас? Не лгите: не хочется. Смотрите холодными глазами…
У вас сын, Марьяна Федоровна. У вас ученики. Вам есть чем дышать: кислорода вволю. Ну-ка, выкиньте бабьи бредни из головы.
Ну его, этого Иннокентия Владимировича. Ходить пусть ходит развлечение… и смешно ни с того ни с сего прогнать человека… а думать о нем ни к чему.