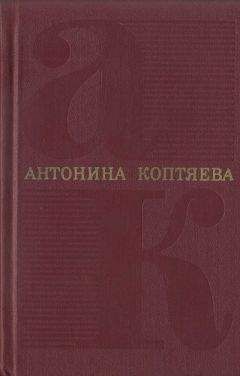— Всем охота, чтоб кто-нибудь схватил поскорей золотую луковицу! — сказал Ефим Наследов, с увлечением наблюдая за ходом событий.
— Понятно. Тут игра вчистую, — охотно поддержал его своим громовым басом Федор Туранин. — Способны, черти, на разные штуки.
— Глядите, как этот вперед вырвался! — по-мальчишески закричал сын Федора, Костя, оборвав разговоры с Митей. — Папаху сбили, а он карабкается напропалую!
Студеный ветер раздувал полотнище флага над потешной крепостью. Мороз так и хватал за щеки, хотя солнце щедро золотило ледяные стены, у которых бегали, суетились добровольцы, подтаскивая защитникам ведра и корзины со снегом. Но уже протягивались руки к призовым часам. Кто одолеет? Кто будет первым? Когда самый сильный и ловкий казак, сделав последний рывок, навалился всем телом на площадку и схватил часы, зрители разразились радостными криками, а озябшие принялись толкаться для согрева, обмениваясь шутливыми, но увесистыми подтычками взашей да под бока.
Казаки тем временем стали готовиться к джигитовке и снова освобождали проезды посредине площади, вдоль подмостков, где находилась городская знать, дразнившая голытьбу беличьими и собольими шубами, бобровыми воротниками и шапками, пушистой вязью оренбургских платков. Сверкали там золотые погоны армейских офицеров, теснились на ступенях черношинельные кадеты и юнкера с серо-серебристыми нашивками. В центре излучало самодовольство губернское начальство.
Дамы, отдыхая от напряженного «боления» за исход борьбы, шушукались — перетрясали сплетни. Молодежь занималась флиртом. Деловые люди сколачивали компании для вечерней пульки, у кого-то наклевывалась обоюдовыгодная сделка, уславливались о магарычах. «Отцы города» обсуждали под шумок, куда им закатиться вечером: в шантан Трошина, расположенный в центре возле губернского суда и Петропавловской церкви, или в «Декаданс» Ладыгина, куда девицы поступали по особому конкурсу. Как нарочно, и это роскошное четырехэтажное, с полуподвалом заведение тоже красовалось на самом видном месте: на Соборной площади, напротив Кафедрального собора.
Праздник, устроенный в Форштадте, столкнул лицом к лицу нищету и богатство, бунтарей и карателей.
Оренбург, давно ставший воротами из Европы в Азию, славился как торговый и железнодорожный центр. В любое время года он кишел приезжими купцами разных наций, барышниками, торговцами хлебом, прасолами. Обширные гостиные ряды, и Караван-Сарай, и расположенный за чертой города с южной стороны белокаменный Меновой двор (где раньше происходил обмен пленными), заполненный внутри сотнями лавок для торговли с «киргизцами», все издавна притягивало купцов. А то, что этот город являлся еще и столицей казачьего войска оренбургского, которое смотрело на него как на свою исконную вотчину, укрепляло в богатых людях уверенность в безопасности. Кого же могли опасаться они в глубоком тылу, надежно защищенном от набегов азиатских кочевников и далеком от западной границы, где третий год бушевала война, которой конца не было видно? В России начался голод, а тут справлялась масленица — целая неделя обжорства перед великим постом. Сегодня воскресенье — прощеный день. Казалось, никому на Форштадтской площади и дела нет до того, что шла тяжкая война с Германией, что разваливалась, «гибла на корню» власть царской династии Романовых.
4
— Гляди, Ефим! — Федор Туранин легонько толкнул Наследова. — Наши соколики прилетели.
Неподалеку от них пробирался сквозь толпу человек в черном пальто и высокой каракулевой шапке. Коротко подстриженная бородка не скрывала усмешливых губ, зорко посматривали жизнерадостные глаза из-под пушистых бровей. Это был Петр Алексеевич Кобозев, инженер-железнодорожник. Рядом с ним шел Александр Коростелев, рабочий паровозоремонтных мастерских, рослый, статный, склонив скуловатое лицо, говорил ему что-то на ходу. «Испытанные, стоящие у нас вожаки», — с гордостью подумал Федор, посматривая то на Кобозева, то на Коростелева, у которого утром брал пачки листовок и прокламаций.
«Взяли мы дело революции в свои руки и будем бороться за него, не щадя жизни», — сказал себе Федор, вспомнив все волнения и трудности, связанные с устройством подпольной типографии в рабочем поселке. Яма для нее выкопана в ночное время на огороде, вход — лазейка у забора за грудой кизяка; сколько ловкости и осторожности нужно, чтобы тайком спуститься туда!
Разевать рот не приходилось: жандармы тоже не дремали. Чуть что — и волчий билет. Отметки в паспортах будто зарубцованные раны: арест, тюрьма, ссылка. И опять сначала: арест, тюрьма, каторжные работы.
Александр Коростелев, горячий и прямой по характеру, все это изведал. В Оренбург он приехал после ссылки из Самары и сразу включился в политическую борьбу.
Не зря гарцевали повсюду казачьи разъезды и караулы… Город стоял как на вулкане, то и дело ощущая толчки народного возмущения. Бурно проходил здесь девятьсот пятый год, долго не затихали отголоски его громовых раскатов, и вот опять неотвратимо назревали события.
Коростелев тоже приметил своих, но только прищурился, а от Кобозева отошел с самым равнодушным видом, будто случайно встретились в толпе. Петр Алексеевич, высланный из Риги за политику, строил железную дорогу Оренбург — Орск, но политикой занимался по-прежнему, хотя жандармы не давали ему покоя, а меньшевики и эсеры поносили на страницах газет за каждое выступление. Чем больше его преследовали, тем крепче льнули к нему такие рабочие, как Харитон Наследов и Федор Туранин.
А у Ефима Наследова будто раскололась душа: он тоже против царя, но не согласен с большевиками насчет диктатуры пролетариата. Утром накричал на Харитона, освобожденного от воинской повинности из-за травмы глаза и работавшего в одном цехе с Тураниным.
— Больно вы скорые! — с раздражением говорил он. — Народников долой, эсеров долой! А они за трудящий народ страдали, за то, чтобы землю общинам отдать, за восьмичасовой рабочий день. Конечно, войну прекратить хорошо бы, да ведь по щучьему велению такое не делается. Значит, отставать от своих союзников нам никак нельзя. Ради победы можно и лишние часы отработать, подождать со своими требованиями.
На площади все снова азартно зашевелилось: началась джигитовка…
Кузнец Федор Туранин, в прошлом хлебороб, на верховых лошадей и рысаков смотрит со снисходительной усмешкой. Конечно, красиво летит во весь опор степной скакун, выносливый, неприхотливый, быстрый, как ураган. Хорош и рысак, когда, играя литыми под атласной шкурой мускулами, высоко вскинув голову с поставленными торчком ушами, идет он рысью, щегольски выбрасывая стройные ноги. Всякий невольно обласкает его взглядом, но если разобраться по существу…
— Разве это конь? Идет, пританцовывает тоненькими ножками, как барышня. Куда его в крестьянстве, к примеру: ни пахать, ни бороновать. Клади возить тоже негож, — не стесняясь соседей, вслух рассуждал Федор. — Вот у нас в артиллерии кони были в японскую войну, опять же на германских позициях… То кони! На спине выспаться можно: как стол спина! Верхом ехать, конечно, трудно. Зато тяга! Сила! А джигитовка эта самая — баловство. Ну чего он лезет под пузо коню? Повис с седла, ровно летучая мышь, да еще мешок напялил на башку. Вона как сиганул наземь да опять в седло… А кабы промахнулся? Зачем такие поигрунки?
Стоявшие рядом горожане оглядывались на громкоголосого кузнеца. Одни посмеивались, другие пожимали плечами: вот, мол, чудак отыскался.
Федор Туранин плечист, ширококост, большенос. После недавнего ранения на щеках впадины (мало того, что получил уже три осколочных): пробило пулей навылет через рот, когда с криком «ура!» бежал с пехотой в атаку.
Несмотря на грозную внешность, он был добрым, уживчивым человеком и хорошим семьянином. Дома с матерью две маленькие дочурки — еще несмышленыши, а сыновья пришли с ним. Старший, Костя, черномазый, похожий на мать-цыганку, все вертелся, как сорока на колу: высматривал Фросю. Заметив издалека не ее, а Харитона, стал продираться к нему. Двенадцатилетний Гераська, освобожденный матерью ради праздника от обязанностей няньки, потащился за братом и был прещедро за то вознагражден встречей со сверстником Пашкой.
Тут-то друзья и пустились азартно разбирать подробности штурма городка, ловкость джигитовщиков и достоинства казачьих лошадей. Обсудили они и пробежавшую весть о том, что, когда стемнеет, будет устроен небывалый фейерверк. Покрикивания лоточников, продававших пирожки и разные лакомства, не очень занимали их: ребятам только бы по куску хлеба добыть. Про халву и пряники думать нечего: в карманах ни полушки, а просить у братьев и отцов — зряшное дело. Дороговизна военного времени скоро всех доконает.
Харитон опять будто под землю провалился, а Фрося стояла возле Пашки, пряменькая, строгая, спрятав озябшие руки в длинные рукава полупальто, сшитого когда-то к свадьбе матери. Черная тугая коса, отливая синевой, тяжело висела за плечами.