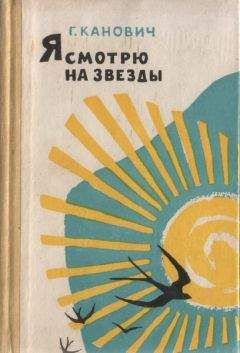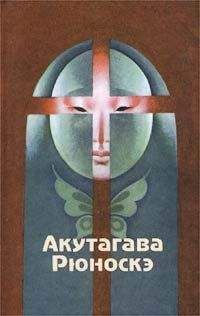— В другой раз, — повторяет Хаим, провожая нас.
Он подходит к козе, спускает ее с привязи, и вот уже они оба бредут по кладбищу.
Ох, как трудно идти с Винцукасом, когда он молчит. Другое дело — с бабушкой. Когда молчит бабушка, я чувствую себя на седьмом небе. Но это бывает так редко. Старушка болтает без устали и все про деньги да мое воспитание.
Винцукас шагает, стиснув зубы. Он комкает в руках скорняцкую шапку, изредка оглядываясь, иду ли я.
— Острая, — расхваливаю я лопату. — С такой легко банку червей накопаешь. Сейчас на них самое время. Уклейки на другую наживку не клюют.
— Врешь, — нарушает молчание Винцукас.
— Вру, честное слово, вру, — радуюсь я тому, что он со мной заговорил.
— Ты и про могильщика соврал.
— Про могильщика?
— Рассказал ему нашу тайну, болтун.
— Ничего я ему не говорил. Он сам догадался. Ничего я ему не говорил. Хочешь — поклянусь.
— Клянись.
— Чтоб мне не сойти с этого места, чтоб у меня отсох язык, чтоб я никогда не пошел в школу.
— Тоже мне клятва!.. Язык у тебя не отсохнет, с места, когда надоест, сойдешь, а в школу тебя, вруна, не примут… Ешь лучше землю!
— То есть как землю?
— А вот так. Опустись на колени, нагни голову, открой рот, набери земли и повторяй за мной: «Ничего я не говорил, не говорил, не говорил». Пять раз.
— С полным ртом?
— Иначе нельзя.
— Раз нельзя, так нельзя.
Я опускаюсь на колени, нагибаю голову, открываю рот и застываю в ожидании.
— Начинай, — подгоняет меня Винцукас.
— Тут муравьи, — защищаюсь я.
— Перейди сюда!
Я перехожу к кустарнику.
— Тут их видимо-невидимо,
— Струсил?
— Нет, но…
— Эх ты, а говоришь: не врал!
— Если бы только не эти… — показываю я на насекомых.
— А ты попробуй. Может, они вкусные. Лягушек же едят. Казис рассказывал.
— То лягушки.
— Стало быть, ты признаешься, что выдал тайну?
— Не выдал.
— Тогда ешь.
Винцукас сверлит меня глазами.
— Считаю до трех. Раз…
— Ладно.
Зажмурившись, падаю на землю и впиваюсь губами в мокрый песок.
— Повторяй за мной, — приказывает Винцукас.
Я пробую что-то вымолвить, но не могу. На зубах хрустит песок. Кто-то душит меня. Вместе с песчинками выплевываю обрывки каких-то слов.
— Нич… рил… Нич… рил… Нич… рил…
— Хватит, — снисходительно кивает Винцукас. — Теперь я тебе верю. Но откуда твой могильщик пронюхал про клад?
— Ума не приложу.
— Он, наверно, черт.
— Никакой он не черт. Он Хаим.
— Вот что, — понижает голос Винцукас. — Приходи вечером к Большому камню и захвати с собой соли.
— Зачем?
— Как только зажгутся первые звезды, мы пролезем в огород и рассыпем ее по грядкам. Там, где солинки сверкнут золотом, там и зарыт клад. Так сказала тетка Агота. И еще тетка Агата сказала, чтоб мы ничего не делали, пока часы не пробьют двенадцать раз.
— Какие часы?
— Костельные.
— Но они же стоят. Часовщик Юдл уже трижды лазал на колокольню. Бабушка даже перестала с ним здороваться. Где это, мол, слыхано, чтоб еврей лазал на колокольню. А Юдл…
— Юдл, Юдл… Если тетка Агота говорит, значит, она знает. Договорились?
— Договорились… Вечером у Большого камня.
Винцукас возвращает мне шапку Лейзера.
— Куда ты?
— К учителю. Белье отнести, — и он, насвистывая, скрывается за углом.
— Шелапут, бродяга, разбойник, — встречает меня бабушка. — Куда тебя черти носили? Опять по чужим огородам шлялся или играл в эту дурацкую орлянку? «Орел, решка, фигу съешь-ка!» Скоро твой непутевый дядя Мотл придет на обед, а у меня ничего не готово. Мясо не смолото, картошка не чищена. Помоги, Авремэле, почисть картошку. Только смотри — шелуху срезай тонко.
Бабушка никогда не говорит:
— Не порежь пальцы!
Бабушка всегда говорит:
— Срезай тонко!
А шелуха, как нарочно, тонко не срезается. Уж лучше есть картошку в мундире. Я очень люблю картошку в мундире с пареной селедкой или с огуречным рассолом. Вкусней, конечно, с селедкой. Дядя Мотл-Златоуст клянется, что это царское блюдо.
— Очищенные бросай в миску, — суетится бабушка. — А я зайду к пекарю Файну за хлебом.
Она надевает старенький салоп и низенькая, сморщенная, словно гриб-мухомор, выскальзывает за дверь.
Я сажусь на табурет, придвигаю корзинку с картошкой и начинаю работать.
Из соседней комнаты доносится стук молотка. Это дед чинит чьи-то ботинки и стучит, как дятел. Сколько подбил он подметок, сколько дыр залатал. Его каморка завалена обувью: тут и тяжелые сапоги, и ботинки с выцветшим бархатным верхом, и остроносые туфельки, и даже шлепанцы.
Дед принимает в починку все, кроме галош. К галошам дед относится неодобрительно. Он считает, что сапожники подохли бы с голоду, если бы весь мир ходил в галошах. Кто бы тогда стаптывал подметки?
Я медленно чищу картошку за картошкой. Грязный ручеек шелухи струится на пол. Руки мои почернели, но я не обращаю на это никакого внимания.
Мои мысли сейчас там… на огороде ксендза. И чудится мне, что не дед стучит за стеной, а костельные часы бьют двенадцать, что в руках у меня не картошка, а слиток золота, что над головой светят звезды, и я смотрю на них, не отрываясь, как смотрят в глаза матери.
— И-хэ, и-хэ, — кашляет дед. — Авремэле!
Я не отзываюсь.
— Авремэле! — стонет старик.
Я кладу нож, стряхиваю с себя шелуху и вхожу к деду.
— Ты меня звал?
— Звал, — он с трудом переводит дыхание. — Что-то у меня сердце прыгает… Глупая курица! Так или иначе ее понесут к резнику. И все-таки она хлопает крыльями. Налей-ка мне, дружок, десять капель.
Я отсчитываю капли и даю деду. Он выпивает их и печально произносит:
— Одно сердце на столько ботинок! Разве это справедливо? Хороший сапожник должен бы иметь два сердца…
— У меня там картошка, — говорю я, — бабушка рассердится, если я не почищу ее.
— Эх, дурак. Я тебе о сердце, а ты мне о картошке, — стыдит меня дед. — Ну, иди, иди. Не мешай, скоро мясник Гирш за ботинками явится.
Я не перечу, возвращаюсь к себе и с особенным рвением принимаюсь за работу. Наконец миска наполнена доверху. Где же бабушка? Видно, задержалась с кем-то. Бабушка часто задерживается. Встретит жену маляра Янкл-Лейба или скорняка Лейзера, — ну… ясно, тут уж так скоро не уйдешь…
В последнее время бабушка очень много говорит про какого-то Гитлера. Этот Гитлер, должно быть, порядочный мерзавец. Иначе бабушка не кричала бы на мою маму, когда та меня защищает:
— Гитлера растишь! Гитлера!
Это даже хорошо, что ее нет. Можно набрать соли. Она стоит в комоде, там же, где сахар.
Я открываю комод, стараясь не скрипеть дверцами. Но не тут-то было!
Дверцы скрипят, как сапоги балагулы Ицика.
Завидую ворам! Они все делают тихо. А я не умею. Тихо я умею только плакать.
И потом очень страшно красть у себя дома. А если попросить бабушку?
Нет, она не даст.
— Взять, — стучит в ушах.
— Не брать, — колотит в мозгу.
— Взять, не брать, взять, не брать… Подумаешь! Украсть немного соли — это, в конце концов, не такой уж страшный грех. Медлить нельзя. Надо решаться!
Но почему же я стою недвижимо? Ведь комод открыт.
— Боже, — молю я, — прости меня! Ты же знаешь, что я никогда ничего не крал. Позволь мне унести отсюда немного соли. Я найду клад — жемчуг, бриллианты, золотые монеты, и тогда за один бриллиант я куплю у лавочника Зака целый мешок соли. Ее хватит на все: и на посол огурцов, и на похлебку, и на всякую всячину. Позволь мне…
— Позволяю, — отвечает господь.
Нет, это не он, а я сам подбадриваю себя, запуская руку в комод.
И вдруг я слышу шаги.
О, эти шаги! Я знаю их, как свои пять пальцев. Никто так не ходит, как бабушка: бочком, почти на цыпочках.
Как ужаленный, я отскакиваю от комода. Старушка смотрит на меня и, не давая опомниться, спрашивает:
— Зачем в комоде рылся?
— Я… Я…
— А ну, отойди!
Бабушка подходит к комоду, резким движением открывает его и, пошарив там, дает мне затрещину.
— Ах, ты паршивец эдакий!
Я стою, не смея дышать.
— Ты что думаешь: у меня склад сахара? Я тебе и так, негодник ты этакий, две ложки в чай кладу. У других внуки как внуки. Только мне господь послал такого. Полкулька сахара сожрал!..
— Сахара?
— Он еще прикидывается! Чтоб тебе пусто было!
Бабушка запирает комод, прячет в чулок ключ, окидывает меня презрительным взглядом и семенит на кухню.
Я судорожно хватаюсь за карман, ощупываю его и застываю.
Нет!
Нет!
Бабушка все перепутала. В том кульке была…