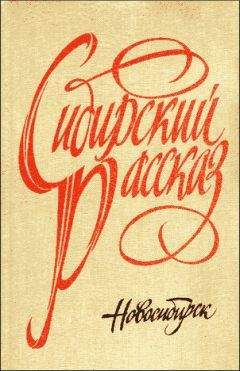В обиходе же была она проста и обходительна, за что старики, хозяева ее, очень уважали. Они-то и надоумили Дмитрия Константиновича попросить ее доглядеть по дому.
Несколько раз с передачей в больницу приходила, домашней еды приносила. Хозяйство она вела исправно. Блюла в избе чистоту.
Во всем этом убедился Дмитрий Константинович, когда из больницы выписался. Наталья в тот вечер и ужин сготовила. Нажарила картошки, достала огурцов из подпола. От денег за работу отказалась. Мол, самому пригодятся, а за бутылкой, за красненьким, сходила. Константиныч полстакана и выпил. Он уж давно себя удерживать стал. А Наталья весело предупредила:
— Ты мне, Константиныч, уж цельный наливай. И так жизнь половинчатая!
Была она в коричневом безрукавном платье, с лица светлая, румяная, головка аккуратная, все будто клонится на длинной шее…
— И то правда, Наталья, — сказал Дмитрий Константинович, — ты все в балахоне этом своем на людях, а поглядеть — баба ты ягодка…
— Только рыжая! — весело рассмеялась та, поднимая стакан.
— Ну и что, что рыжая. Зато сердечная и вон какая справная, а жизни, верно, нету…
— Не скажи, Константиныч, не скажи. От мужиков, что ли не знаешь, не пройтить. Да взять и соседа твоего, Петьку, — смеется Наталья. — За твое выздоровление и с возвращенцем! — Медленно она выпила стакан, степенно на стол поставила. Взяла вилку, наколола на нее кусочек огурца.
— Веселая ты, — Константиныч с удовольствием ел картошку. — Заскучал по домашнему вареву. От научной диеты кишки чуть не слиплись. — И неожиданно, без перехода, видимо, много думал об этом, сказал — Генка в последний раз писал. Хватит, говорит, людей смешить и нас позорить. Приеду и заберу. Целую комнату обещает отдать. У него палаты большие и этаж низкий — второй… Избу продадим, деньги, говорит, на твою книжку положим, нам они без надобности. Рассудил все как есть.
Дмитрий Константинович снова налил в стаканы.
— И верно, Константиныч, чего тебе бобыльничать? Был бы сирота. А то ведь и внуки есть, — заметила Наталья. — Хоть ты и с виду, конечно, еще справный, но одному-то сладко ли? Как вот она завоет, заметет, а?
Константиныч ладонью пригладил волосы. Они у него белые-белые, но густые, так торчком и торчат, как и в детстве.
— Оно, соседушка, не нами придумано-отмеряно. У всякого своя радость. Генке тому машину надо. Юлька с зятем в заграницу собираются. А у тебя опять радость — Петькиной Вальке досадить. Она бабенка, верно, злая, но уж ты бы ее пожалела, ведь трое же у них.
— Да на кой ляд он мне, ваш Петка, сдался, горе мое, — у Натальи от гнева даже слезы выступили и по округлости щек румянец пошел. — Да я его же дальше порога и не пускала никогда, а вот за то, что она на всю улицу меня позорит, этого я ей не спущу, повоет она у меня. Коли я одна и слова некому сказать, так значит и вали все, что ни попало? Да я, может, чище их — замужних. Был у меня такой свой Петька, в один миг рассчитала… Ох, и липучие вы, собачье племя, мужики! — рассмеялась Наталья, и гнева как не бывало. — Хирург ваш-то вовсе херувимчик. Образованный, при жене и туда же… Может, во мне и впрямь сладость особая?
Наталья распалилась, смеется весело, голос напевный и вдруг умолкла. Склонила голову, долго смотрела на скатерку и, точно разглядев что-то, провела по ней ладошкой, будто вытирая, а потом рукой как все равно паутину отвела с лица, улыбнулась себе, откинула назад свою рыжекосую голову и Константинычу с улыбкой:
— В голове шумит. Давай песни петь, а? — и тихонько завела: — «Что стоишь, качаясь, горькая рябина…»
Подпевал и Дмитрий Константинович, с молоду он был не мастак на песни, поэтому шибко не выпячивался, так басил потихоньку, что называется, за компанию.
Затявкала Жучка, потом приветливо завизжала, кто-то громко потолкался на крыльце, и вот позади белого клуба, закрутившегося в открытых дверях, оказался широкоплечий мужчина в фуфайке и без шапки.
— С возвращением, Константиныч, — обрадованно зашумел он. — Я своей говорю: у деда следы вроде как мужские во дворе видать, не иначе оклемался наш сосед, не помер еще, — визгливо хохотнул мужчина, прошел и сел прямо к столу. — Она и говорит: а может, это твоя сучка кобеля привела. Это, Наташка, про тебя, значит, — он опять весело взвизгнул. — Ох и стервы же вы друг на дружку, бабы…
— Ты тоже хорош гусь, — Наталья сказала без обиды, — я вот ей, твоей дорогой, еще косы-то расчешу… Ладно, скидавай свою фуфайку, садись к столу. — Она встала. Около печки, в простенке, висел посудный шкафчик, Наталья достала стакан, вилку. Поставила все это перед гостем.
— Ну, спасибочки! — развеселился совсем Петр. — Спасибочки! Ну, наливай.
Жучка вновь гавкнула, потом завизжала, и на этот раз вместе с белесыми всполохами морозного воздуха в избу вскочила маленькая женская фигурка.
— Сбежались, голубчики? — не поздоровавшись, спросила она.
— Здравствуй, соседка! — поднялся из-за стола Константиныч. Высокий, худощавый, он вовсе подпирал потолок, — Проходи, гостьей будешь, — и захромал навстречу. Избы-то всей было шага три…
— Нет уж, спасибочка, гостите сами. А ты, кобель, домой не показывайся! — последние слова она прокричала, уже открыв дверь. Потом хлопнула ею так, что даже закачалась лампа над столом. И долго еще по полу тянуло холодом, остужая начавшееся было веселье.
— Ну, Петька… — только и посочувствовал хозяин.
— И мне пора, Константиныч, спасибо за хлеб-соль, — поднялась Наталья. Она стала собирать со стола.
— Оставь, чего уж, — Дмитрий Константинович тоже встал, — поди, не без рук, — и он, припадая на правую ногу, захромал вокруг стола. — И так тебе спасибо, в избе-то хоть живым пахнет.
— Да сядь ты, сядь! — Наталья взяла его за плечи и усадила на свое место. Руки ее всего и момент один прикоснулись, а Дмитрий Константинович сквозь рубаху почуял их непривычное тепло и ласковую мягкость. Все это и происходило-то незаметную минутку, но обдало Константиныча жаром внутри. А Наталья уже поставила на стол большую чашку, из чайника плеснула кипятку, почерпнула ковшиком из бачка холодной воды, вылила опять в чашку и принялась мыть посуду. Все у нее выходило складно, быстро, а она еще и приговаривала:
— Не надсадилась, поди. По-соседски как не помочь. А ты, Константиныч, и правда, езжал бы к сыну. Он у тебя хороший, сноха ученая и обходительная. В магазине я приметила, обходительного человека всегда видно. «У нас, — она говорит, — папаша только индийский чай любит…» Да и то сказать: семья — она и есть семья…
Потом повернулась резко так, платье туго на высокой груди натянулось, засмеялась:
— Пошли, кавалер! — это она Петру. — Или женушку испугаешься?
— Чего это я пугаться буду? — бодрится тот. — Правда, я без шапки.
— А тебе Константиныч даст. Найдется старенькая, Константиныч? — на лице ее улыбка. Говорит, а глаза с Петра не сводит. И словно разговор от них, от этих глаз идет, слова не те, что Наталья вслух произносит, а другие, бесстыжие и ласковые. На Петра Константинычу и глядеть страшно стало. А Наталья уж в свою фуфайку облачилась. Тут Дмитрий Константинович что-то спохватился.
— Погоди-ка, соседушка, сей секунд. — Он прохромал в горницу, там загремел ящик комода. Долго искать ему не пришлось. — Вот! — Вернувшись к гостям, показал он большой черный с красными цветами шерстяной платок. — Тебе, Наташа, возьми. Его Анна всего ничего и носила. Моим девкам без надобности, немодный, а чего ему лежать. Возьми, примерь-ка. Примерь. — Он с такой настойчивостью упрашивал, как будто боялся отказа. Наталья даже слова против не сказала. Движением привычным и быстрым она накинула платок на голову, туго обернув один конец вокруг шеи, и молча повернулась к Константинычу. Серьезно, чуть ли не строго глядела. Куда и игривость, и смешливость пропали. Случается такое. Неожиданно на минутку раскроется человек и окажет нежданно всю ясность и красоту свою.
— Ну и носи на здоровье, — сказал Константиныч. — А ты, Петр, и впрямь надень мой треух, завтра занесешь. — Он показал рукой на вешалку. — Не ровен час и уши отморозишь…
Стоит сосед Григорий с Геннадием на крыльце. Григорий оглянулся с опаской на дверь. Они остались вдвоем, Табаковы ушли, и доверительно вполголоса, почти шепотом заговорил:
— Это у них, Дмитрич, зимой и случилось.
Геннадию Дмитриевичу стало не по себе. Вспомнился ему последний приезд и разговор с отцом, припомнилось и то, что ни в какой командировке зимой он не был. Просто не знал об отцовской болезни. Переписываться они не привыкли, так, открытки к празднику жена посылала, а тут чего-то у них самих дома не ладилось и, видно, забыли. Обидным и за себя, а больше всего за память о матери считал он стариковскую блажь… Они и строили вдвоем этот дом, прожили в нем всю жизнь — и на тебе! Он, Геннадий, зовет же отца к себе, комнату отдельную отдает, на худой конец квартиру разменять можно, на его четырехкомнатную охотников всегда найдется. И на что сдалась отцу эта бабенка? Эта вертлявая толстушка на целых два года моложе сестры Юльки.