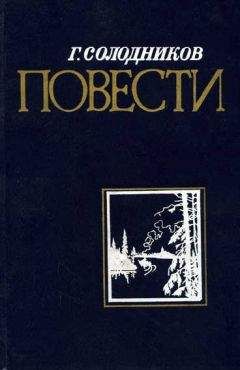Мы подходили к ним на безопасное расстояние, и кто-нибудь деловито начинал:
— Бабай! Урюк бар?
— Ёк, Ёк, — печально неслось в ответ.
Какой там урюк! Это в первые дни, когда они только-только приехали, у них еще водились сушеные фрукты.
Тогда приветливо задавался второй вопрос:
— Бабай! Малай бар?
Двое или трое бросали работу. Они что-то лопотали, коверкая русские слова, показывали на пальцах число детей и возраст их: рисовали в воздухе ладошкой всем понятную «лесенку». Они улыбались, цокали языками и трясли хилыми бороденками. Они звали нас ближе, чтобы, наверное, рассказать о южном небе, о розовом цветении абрикосовых деревьев, о своих «малаях».
И вот тогда свершалось то грязное, от чего теперь, взрослому, хочется от стыда мотать головой, забыть, уничтожить саму память об этом… Тогда-то самый отчаянный из нас разом прерывал эту святую мужскую воркотню о доме, о семье, о детях. Сжав рукой угол полы своего пальтишка и высоко подняв его, он орал:
— Ходя! Свиное ухо бар?
И дикий гогот, и свист, и улюлюканье…
Я теперь знаю, почему так свирепели они, хотя не все из них были истыми мусульманами.
…Над нашим северным городком кружилась вьюжная зима. Я был один дома, когда вошел он. Маленькая, не по голове, шапка, мочалистая борода, косополый халат — все было в густом дымящемся куржаке. Остекленевшими глазами он обвел избу, как слепой, сделал несмелый шажок к печи и остановился.
Тут я узнал его. Неделю назад почти в пустой столовке я получал по детским карточкам обед на дом. Какой-то парень протяжно швыркал за столом баланду, а он молча стоял перед ним. Стоял неподвижно, молчал и лишь косил влажным глазом на две вплотную сдвинутые тарелки с мутной жижей на донышке. 'Когда парень ушел, он слил все в одну тарелку и сел на табурет. Остатки этого уже остывшего варева он пил через край, запрокинув голову, медленно, с расстановкой. Его острый кадык колотился судорожно и сильно. Казалось, вот-вот кожа не выдержит и порвется. Потом он поднялся и так же молча замер перед другим столам…
Его приход в наш дом испугал меня, и я сидел не шевелясь. А он, видимо отогревшись чуточку, осмелел, подошел вплотную к печке и выбросил на ее горячий бок две сухие темные ладони с хрящеватыми пальцами. Затем отвернулся в угол, распустил на халате веревочный пояс, расстегнул обветшалые брюки. Сунул за опушку уже согревшуюся руку и стал разминать озябшее тело. Потом он долго что-то развязывал и протянул к печке матерчатый продолговатый мешочек с пришитой к нему узенькой скрученной тряпицей, похожий на наперсток, какой сшила однажды мне мать, когда я поранил палец и часто терял повязку. Погрев этот наперсток, он снова надел его и завязал тесемки.
Он ничего не просил у меня. Еще раз погладив ладонями белую печь, он повернул к двери. Я выскочил из-за стола. Я схватил из чугунка две последние картошины и сунул в его холодные руки…
Через несколько дней мы шли из школы и увидели «бабаев» у костра на стройке. Ребята оживились: эх, подползем да как начнем пушить комьями!
— Не надо, ребята, — начал я несмело. — Они устали, замерзли.
— Ты кого защищаешь? — насел на меня наш верховод. — Гляньте, ходин заступник!
— Ходин заступник! — обрадаванно подхватил кто-то из ребят.
— Хо-дин зас-туп-ник, — словно на вкус тихо попробовал другой.
Я знал, что прозвище может пристать ко мне надолго. Я уже был ученый…
И я пошел с ребятами.
Когда у костра закричали, мы кинулись врассыпную. Быстрее всех бежал я: от костра, от ребят, от себя…
И до самого дома казалось, что «бабай» смотрит и смотрит мне вслед.
Солнце лениво сползло за синие увалы.
С реки набежал ветерок, дохнуло прохладой. Бойко залопотали листья ольховника, что густо заполонил пойменное правобережье. В жару, потускневшие и вялые, они висели безжизненно. А сейчас сочно бились на ветру, затопляя все радостным гулом.
Я только что приехал в этот лагерь и теперь отдыхал в палатке. В откинутый полог был виден островок деревьев. Они тесно обступили столовую — несколько рядов наспех сколоченных из неструганого теса столов и лавок.
Лежа на хрупком и духовитом сене-листовнике, я думал об ольхе — этом неброском с виду, но таком интересном дереве. Древесина у него легкая, с затейливым узором, и потому в почете у краснодеревщиков. Из ольховой коры делают стойкие краски. Хороша ольха и тем, что сама удобряет почву. На ее корнях есть «волшебные» клубеньки. Они накапливают азот. Впервые обо всем этом я узнал давным-давно, еще в детстве. Мне довелось тогда прослушать обстоятельную беседу. Она была неприятна для меня и показалась долгой, как дождливый день.
Весна была в разгаре. Под корой у деревьев упруго бродил сок, а у нас, ребят, от обилия лесных запахов, звуков и сверкающего солнца сладко кружилась голова.
Мы играли в дикарей. Удрали в лес, распалили на поляне большущий костер. Потом гнули ломкий ольховник и сдирали с него кору. Сок быстро густел. Голая нежная древесина на свету бурела, как засвеченная фотобумага. Кусочками коры с остатками бурого сока, словно ляписом, мы разрисовывали друг друга. Потом с дикими воплями прыгали через костер, плясали вокруг него.
Вдруг в дальних кустах верхом на лошади показался мой отец. Но мы раньше увидели его и успели разбежаться. Я был уверен, что отец не заметил меня. И вправду, дома о лесном костре мне не было сказано ни слова.
Утром меня подняло ни свет ни заря, и я сразу бросился через кухню во двор.
— А-а! Нарушитель! — вдруг грозно раздалось над моим ухом. Я до того испугался, что в первую минуту ничего спросонья не мог разглядеть.
— Так это он палит костры в лесу, губит деревья! — рокотал голос. — Что ж, возьму с собой в город. Там разберемся.
За столом в кухне сидел большой начальник — сам лесничий. Я глянул на отца. Тот лишь развел руками.
Лесничий устало развалился на лавке, угловатый, тяжелый, поставив двустволку между колен. Он колюче смотрел на меня из-под мохнатых бровей и в такт словам хлопал широкой ладонью по столешнице.
Мне уже было невтерпеж. Я переминался с ноги на ногу, тоскливо смотрел на распахнутую дверь и чувствовал, что или со мной случится беда, или я вот-вот разревусь. А лесничий, ничего не замечая, говорил о загубленной вчера ольховой молоди и о том, какие они полезные, эти деревья.
На мое счастье, он не слишком долго мучил меня, и я пулей вылетел из избы…
Тогда-то я об этом не подумал, но теперь уверен, что не успел я скрыться в глубине двора, как лесничий с отцом хитро рассмеялись. А мать наверняка долго корила их, бессердечных мужиков, за «измывательство над ребенком».
Этот памятный случай был, пожалуй, первым из тех житейских уроков, которые постепенно научили меня уважительно относиться к невзрачному деревцу.
…Брезент палатки, в которой я лежал, совсем остыл. Понизу повеяло сыростью.
Поднявшись, я отправился на берег реки.
На луговине возле «столовой» мне послышался необычный здесь треск: словно кто-то ворошил груду сухих обрезков бумаги. Я невольно глянул на листья ближней ольхи.
Они были жухлые и темные, будто ошпаренные кипятком, постепенно крошились и облетали. Трава возле самого ствола пожелтела, усохла, и были видны неплотные стыки небрежно брошенных пластов дерна. И тут только я заметил, что не по-живому, слишком уж ровно, этаким правильным четырехугольником стоят ольхи.
Ровно тянул ветер. Печально шуршала сухая листва, будто жаловалась… Даже птицы не садились на эти деревья.
Все дни, сколько я жил в лагере, при виде мертвых ольх мне почему-то становилось неловко и стыдно, хотя я тут был ни при чем.
Тревожно звякнули стекла в пазах.
— Петрович, на двадцатом горит!
Белесая июньская ночь была на редкость душной и тихой.
Из летнего пристроя, где мы спали, было слышно, как отец глухим от сна голосом велел поднимать мужиков и быстро всем собираться на станции. Покрикивая на застоявшуюся казенную лошадь, он гремел лопатами, кайлами, носил из скрипучего сарайчика огнетушители.
Взвизгнули ворота, под окнами протарахтела телега. Вскоре, прогудев рассерженной осой, укатила по рельсам в ночные леса станционная дрезина. И опять вокруг стало тихо.
Лето начиналось сухое и жаркое. Несмотря на щиты-крестовины возле линии, призывающие паровозных машинистов «закрыть сифон и поддувало», то там, то здесь занимались пожары. Дежурившие на полотне рабочие из лесничества и путевые обходчики быстро гасили их. К частым, скоротечным пожарам уже привыкли, и даже ночная тревога по-настоящему никого не обеспокоила.
Но отец с рабочими не вернулись ни утром, ни днем. Никто тол-жом ничего не знал. Поползли разные слухи. Солнце палило нещадно. Выло под тридцать градусов. Поселок оцепенел от жары и ожидания.