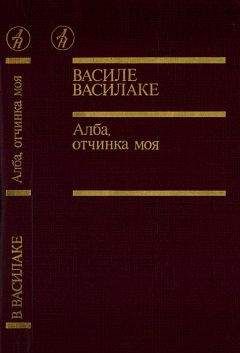— А-а-а, где же ты, маленький мо-о-ой…
— Потише вы, не слышно ничего! Поглядите сюда… кто-нибудь знает его? Ближе, ближе подходите… Чей он? Да не все сразу!..
Прибежала из села и тетя Наталица: что, сомневались в словах ее сыночка дорогого? Вот, удостоверьтесь: «У нас мертвые, у нас раненые…» И слышим:
— А ну, бабоньки, кто тут в положении — давайте-ка отсюда, нечего глазеть. Еще случится что с перепугу, упаси господи…
А ее двоюродный брат с дядей Каранфилом тоже принялись командовать:
— Должен быть документ! По карманам надо пошарить… Раз он солдат, должен быть и документ, а в нем имя и номер! Как станешь солдатом, тут же страна берет на учет, такой порядок. И дает документ… А ну посмотри там!..
Что же выходило? Разговорами, догадками будто пытались его воскресить? Вот Каранфил сказал: «Да он того… вроде как помер», — и словно начал сомневаться, а так ли уж он мертв, этот человек… И беспокойное: «Дайте мне его документы!» — как иначе истолковать?
А на ветру безучастно раскачивался ковыль, разлетались по степи всхлипы Мэфтулясы, и вдали, в свисте ковыльного марева, видением маячил Прикоп-дурачок…
— Кто его первым нашел, что говорит? Как это было? И что говорил покойный?..
Ну и ну, значит, я успел побеседовать с солдатом! То есть мы сначала перекинулись словечком, он поведал напоследок о своих мытарствах, а потом взял и преставился… По простоте душевной я снова вылез со своим «муравьи его кусали» и, конечно, опять схлопотал затрещину:
— Да сгинь ты наконец, дьявол!.. Что тут крутишься? Сказано — не лезь!..
Вот и пойми их — спрашивают, а сами гонят. Ведь я его первым увидел, не кто-нибудь! Кому лучше знать, как не мне!.. Но тихий плач Мэфтулясы утешал, успокаивал…
— Встань, мой маленький… Отзови-и-ись…
Ах, как ухмыльнулся в это мгновение ковыль!.. Дескать, что, дедуля, давно ли это было — и окрики, и шлепки? Путался под ногами взрослых пастушок, да? Ну и ну… так это на тебя рявкнули тогда — «дьявол»? Хм, дед-дедуган небось не прочь бы снова стать тем дьяволенком, а?..
Замолчи, ковыль! Все я помню, все — и как тетя Наталица на взгорье выступала перед беременными, повествуя о великих делах своего сына:
— А сердце-то… Что мне сердце говорило, милые мои?.. С утра еще маковой росинки во рту не было… Как села за станок ткать… Ох!.. А дело не идет, валится все из рук, хоть умри! За окном громыхает, а как подумаю, где там мой Ион, сердце-то и зайдется. Ох, говорю, сыночек, стреляют в тебя и пушки, и еропланы эти… Говорю, а слезы текут, мочи нет — затворила дверь и давай плакать, думаю, может, полегчает… Вдруг слышу, как из-под земли: «Мама, мама!.. Не плачь, послушай… Столько крови льется, и все понапрасну!..» Ох, горюшко, схоронишься ли от беды? Сдернула защелку, бросилась во двор, на завалинку, и опять слышу, что вы думаете?.. Ион мой на машине! «Мама, кричит, это я, слышишь, мамочка?! Поля обшарьте, поля! У нас мертвые, у нас раненые…» И вот смотрите, лежит, горемыка, убитый… И ведь чей-то сын…
Вдруг она обернулась к востоку, где гудела канонада?
— Разрази вас гром небесный, варвары! Делили-делили землю — не поделили, пропадите вы пропадом, ненасытные! Чтоб эта земля глотки ваши забила, глаза позасыпала!.. Чтоб живьем вас проглотила!.. — И тут же к женщинам: — А вы, уважаемые, что вы стоите? Перекреститесь — прибавления ждете, как бы греха не вышло…
Так они текли, слова… На ковыль никто тогда и не глянул, а сам он высвистывал насмешливо: суетятся, мудрят, хлопочут… все им мало… Была у вас мирная пятница, за ней воскресная ярмарка, и вот свалилось — вторник пришел, вторник сорок первого, с новыми задачками. Люди толпились на холме вокруг мертвого — кому пришло бы в голову прислушиваться? Теребит ветер траву, и пусть себе шелестит, на то она и трава…
— Эй, Сынджеры! Посмотрите-ка хорошенько… Ваши поля здесь неподалеку… Может, кто из братьев сюда подался при отступлении?
Родни у этих Сынджеров видимо-невидимо, одних только братьев семеро, а к ним прибавьте детей, жен, зятьев, племянников…
Из села все шли и шли люди, словно тянуло их сюда, как паломников к святому капищу. Подойдут, сгрудятся, посмотрят на лежащего и, покачав головой, отходят: нет, дескать, не из наших. Но почему-то крестятся, отводят глаза…
— Не наш, кажется…
— Вроде и не Михай… Кто не верит, пусть получше посмотрит…
И опять крестятся, опять отворачиваются — словно оцепенели все. Наконец кто-то из Котялов разозлился:
— Не-ет, не наш, точно вам говорю!.. Кто Аргира хорошо помнит? Кажется, этот на него смахивает, нет?
В таких случаях не обходится без какого-нибудь всезнайки:
— Да что вы!.. Аргир хилый такой был, щуплый… А этот… Вот какой дядила!
Будь убитый вовсе не такой уж «дядила», к этим словам прислушались бы. Почему? Да потому что не было никого у цыгана Аргира, чтоб своим признать, — ни отца-матери, ни жены, ни тети, ни брата с сестрой. Жил бобыль бобылем, «одинокая кукушка, пташка серая», как в песне поется.
А появился он у нас в селе много лет назад. Проходил как-то мимо цыган, остановился на несколько дней подкормиться. Оставалась в котомке горстка-другая муки, пара лепешек, да еще бренчали за спиной точила и несколько долот. Прозвали цыгана «промышленником», потому что из простого куска дерева он выделывал ложки… И какие ложки! Сядешь за стол — крошки в тарелке не останется, уплетешь подчистую.
У тети Наталицы и сейчас еще есть в доме деревянная ложка, из тех липовых, что мастерил когда-то отец Аргира. Сколько раз просил: «Отдай мне ложку, тетя, отнесу в музей, там ее с руками оторвут!» А тетя хмыкала: «Господи боже, музей! Ты как дитя малое… Да кому это нужно? Вот если бы золотая или из серебра — такую хоть куда возьмут…»
И я думал: «Липа… мягкое белое дерево… Мы спешим, обжигаем губы железными ложками, ворчим сгоряча, а она, наверно, подсмеивается и жалеет нас…»
Тогда никто не обращал внимания на чернявого цыганенка. То и дело вертелся тот вокруг верстака с точилом — норовил стащить отцовские долота и ножи, поиграть. А потом растеряет, забудет их где-нибудь в мусорной куче или в навозе. Отец, как водится, отчихвостит пацана и примется проклинать бога, душу и святой крест… Бывало, так разойдется, что не успокоится, пока не помянет и его мать. И кумушки судачили, слыша из-за забора эти проклятия: видно, мать мальчишки еще жива, и отец все не может забыть ее — так ненавидит. Бросила она, наверно, цыгана и ушла на край света с другим…
Прожил он в селе недели две, долбил липовые чурки, менял готовые ложки на муку и яйца… Но смотрел понуро, исподлобья — тосковал, видно, по дороге и по ушедшей жене. Наконец не вытерпел, пошел к хозяину, что жил по соседству — ютился цыган во времянке на окраине, а за постой платил ложками, — и попросил того крестьянина присмотреть дня два-три за сыном, потому что нужно ему уйти — «сил нет, хозяин, все нутро запеклось!»
Ушел Касьян, а мальчишка его остался… Я говорил, кажется, что цыгана звали Касьяном? Нет отца три дня, нет четыре, только на пятый появился — и прямиком в корчму.
— Касьян, что это ты как в воду опущенный? — спрашивает его корчмарь.
— Не было у этого мира матери, дорогой! — отвечает ложкарь. — Налей-ка мне водки…
Взял он чарку, а пить не стал — уткнулся глазами в стакан и глядел долго, пристально, не моргая, будто на дне увидел все грехи свои тяжкие. Подумал еще, подумал, потом мотнул головой:
— Нет, прежде надо с попом поговорить. — Заплатил за стакан, но так и не притронулся. — Жив-здоров вернусь — выпью, — сказал весело. — И попрошу, сохрани его для меня…
Потом уже, по воскресеньям, когда корчма бывала битком набита весельчаками-гуляками, корчмарь поднимал этот полный стакан, осторожно, словно плескалась в нем сама душа цыгана, и в который раз начинал рассказывать историю отца Аргира. Не забывал прибавить и то, что говорили две поповские соседки. Мол, видели они: подошел Касьян-ложкарь к дому попа, покружил вокруг ворот и забора, а тем соседкам показалось, будто собрался милостыню просить, — не исповедоваться же он, цыган, сюда явился… Потом остановился у поповского колодца, у самого забора, и облокотился на сруб… постоял так, постоял, сгорбившись, как над тем нетронутым стаканом, что оставил в корчме, и отвернулся, казалось, уже уйти собирается. Потом прислушался, вроде почудилось что-то: «А-а, вот они где! Опять здесь, на моем пути?.. Эй вы, там, слышите?!» — и бросился, бедный, прямо вниз головой в темень колодца глубиною в пять сажен.
Рассказывая, корчмарь устраивал целое представление для посетителей — пожалуйста, смотрите, этот самый стакан остался невыпитым, и я свидетель! Вот вам крест, Касьян так и сказал: «Сохрани его для меня…» А вы, прошу вас, выпейте за упокой его души, ибо он-то уж не сможет прийти и выпить. И с этим наполненным стаканом корчмарь встречал новых посетителей, а тем, кто уже слышал историю Касьяна, рассказывал вдобавок и свои сны, потому что, знаете ли, чуть не каждую ночь снился ему Касьян. Ох, какой был сон!..