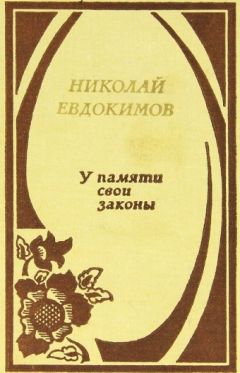Она взяла их, передала мне пирамидон, и я ушел, жалея, что так получилось, потому что мне хотелось еще постоять за этой старухой, вдыхая запах волос своей матери.
В кабинете я с трудом отодрал скользкую целлофановую ленточку с пачки пирамидона, проглотил таблетку и сел за стол в свое кресло.
Я сел за стол, включил селектор, сказал: «Здравствуйте, товарищи», — и... потекла другая жизнь, где я не принадлежал себе. Все стало далеким: и газетная статья, и шамаевский звонок, и мое самолюбие, — все это будто забылось, будто обмельчало в одно мгновение. Иные заботы уже занимали меня. И так каждый день; едва я сажусь в свое кресло, как все второстепенное уходит от меня. В этом кресле я уже себе не принадлежу. Мои чувства тут не нужны.
А потом... Как странен бывает возврат к той первой жизни, когда кончается рабочий день! С завода я ухожу всегда последним. Сдаю уборщице ключи от кабинета и иду к машине, а затем медленно еду по городу, привыкая к этой жизни и к себе, лишенному до утра дела. Нелегко к ней сразу привыкнуть, к этой жизни: она кажется пустой и, в общем-то, бессмысленной, ибо заполнена мелкими заботами о себе самом. А что человек сам по себе, без дела?
Как кончается рабочий день, я почти никогда не замечаю. Не заметил и на этот раз. Была суббота — короткий день. Я запер стол, сейф и спустился вниз на шумную солнечную площадь, где стояла моя «Волга».
В лужице барахтались воробьи. Я спугнул их, пройдя мимо. Они взлетели, свистя крыльями, облепили тополь, под которым стояла машина. Возле машины сидела на чемоданчике девушка. Что-то смутно знакомое почудилось мне в ее лице. Увидев меня, она встала, но от машины не отошла.
— Ну-ка разреши, пожалуйста, — сказал я.
Она стояла, смотрела на меня.
Я открыл дверцу, бросил на заднее сиденье портфель.
— Мне нужно с вами поговорить, — сказала она.
— С трех до пяти в среду, — ответил я и сел в машину, хотел закрыть дверцу, но девица эта решительно придержала ее. — Есть приемные дни, — сказал я. — Понимаешь?
— Понимаю, — ответила она. — Мне надо поговорить с вами не как с директором, а как с человеком.
Я усмехнулся.
—«Как с человеком»... Давно со мной не разговаривали как с человеком. Ну садись, потолкуем.
Она обошла машину, села рядом со мной, поставив чемодан на свои острые загорелые колени.
И снова я подумал, что ее лицо мне знакомо, словно бы я уже где-то встречался с ней. Лица, лица, лица! На дню их проходило перед моими глазами великое множество — и в кабинете, и на заводе, в цехах, и в уличной толпе. Я, наверно, сошел бы с ума, если бы запоминал все эти лица, но человеческая память не фотоаппарат, у нее есть свои пределы. Люди появлялись перед моими глазами и исчезали, они были похожи друг на друга, будто глядел я на бесконечную кинопленку с одним и тем же туманным, плохо проявленным кадром. Но лицо этой девушки было иным, не из тех, которые случайно запомнились тебе в уличной толпе или на многолюдном собрании. Я словно бы знал этот взгляд черных, настороженных, доверчивых глаз.
Нет, наверно, человека, который бы хоть однажды не испытал внезапное странное чувство: вдруг покажется, словно то, что переживаешь сейчас, уже было давно, хотя этого не было никогда. Так и в то мгновение мне почудилось, будто я уже сидел когда-то рядом с этой девчонкой, уже видел ее острые шершавые колени, ее руки, держащие чемоданчик, и эти детские настороженные глаза. И однако я знал, что вижу ее в первый раз.
— Ну, куда поедем? — спросил я.
Она молча пожала плечами.
Я усмехнулся, выехал на проспект Металлургов.
— О чем будем разговаривать? — спросил я.
Она промолчала. Она не шевельнулась, сидела, смотря перед собой в ветровое стекло, но я скорее почувствовал, чем заметил, как она будто напряглась от этого вопроса. На голых ее руках выступила гусиная кожа.
— Ну, ну, — сказал я, — молчание тоже разговор. Хотя слова понятнее. Я предпочитаю слова.
Она молчала.
Я видел в зеркало, как расширились ее глаза, будто испугалась она чего-то, и мне тоже стало не по себе. Я чувствовал ее волнение и почему-то сам стал волноваться. Вид у нее был и жалкий и решительный одновременно и оттого немного смешной. Она закусила нижнюю губу и будто глотала что-то и никак не могла проглотить. Сейчас она выглядела совсем девчонкой, трогательной в своем волнении. Чего она хотела от меня? Я не торопил ее высказаться. Зачем? Я заранее знал, что услышу какую-нибудь очередную просьбу из тех, которые мне приходилось десятками слышать каждый день. Она боялась меня, она верила в мою силу, хотя знала, наверно, как щипали меня последнее время. В глубине души я был благодарен ей за это. Пусть сидит и молчит, пусть дольше молчит.
У нее была нежная, хрупкая детская шея. На шее возле ключицы билась голубая жилка.
Каждый из нас, наверно, носит в себе страшное воспоминание, то, что он хотел бы забыть, но не может. И ко мне иногда приходит такое воспоминание, неожиданное, как болезнь. Что пробуждает его, не знаю. Но так бывает: в суматохе дел, в шуме заседания, в грохоте работающих машин вдруг прорвется с улицы детский голос, и сердце мое на мгновение заледенеет от ужаса. Город полон детей, он звенит их голосами, и звон этот — как шум деревьев, как крики воробьев: их слышишь и не слышишь, как видишь и не видишь самих детей. Но это приходит внезапно, как удар молнии. Оно может настигнуть где и когда угодно: на заседании, во время телефонного разговора, ночью во сне. Это лежит где- то в тайниках памяти, лежит, не напоминая о себе месяцами, и вдруг вынырнет и обдаст ужасом все твое существо. Видимо, у памяти свои законы, видимо, память знает, когда напомнить человеку то, что он и мог бы забыть, но чего, очевидно, ему не надо забывать. И не важно, отогнал ли ты это воспоминание или сосредоточился на нем, придал ли ему значение или нет, ты и сам не заметишь, что дело сделано, — ум твой, твою совесть будто подхлестнули, будто завели, как начавшие отставать часы.
Я взглянул на хрупкую шею девушки, на голубую жилку, которая билась возле ее ключицы, и в это мгновение оно пришло, страшное это воспоминание. Что пробудило его, не знаю, но я будто оглох на секунду, будто адская машина времени вытолкнула меня и из «Волги» и из этого города и понесла назад, в огонь и чад войны. И вот уже я бегу по красным рельсам псковского вокзала. Вокруг полыхает пожар, съедая землю, вагоны, станционные постройки и даже само небо. А в небе зловещей тучей висят немецкие самолеты, и от каждого, свистя, летят вниз черные бомбы. Толпы людей, крича, мечутся в огненном кольце, их лица безумны, страшны, их белые руки, с проклятием поднятые вверх, как нежные шеи лебедей, над которыми занесен нож убийцы. Люди мечутся, но им негде укрыться, и бомбы летят прямо в них. Жалко лает одинокая наша зенитка. А я бегу по красным рельсам, боясь, что не успею донести свою ношу, которую подобрал сейчас возле пылающего вагона. У меня на руках лежит девочка — ей лет пять, не больше, — кровь хлещет из ее живота. Зажав ладонью рану, я бегу туда, где должен быть госпиталь. Винтовка стучит по бедру, но еще громче стучит сердце девочки — этот стук сильнее грохота взрывов, людских криков, завывания огня. Девочка уже не плачет, она смотрит на меня большими, страшными глазами, лицо ее в саже и кровоподтеках. Я бегу, ругаясь, боясь смотреть на свою ношу, прикрыв ладонью ее горячий живот, будто голой рукой держу кусок расплавленного металла. Обжигая, он сочится между пальцев, липнет к гимнастерке. Я бегу... Но и там, где должен быть госпиталь, тоже пожар. «Потерпи», — кричу я и бегу дальше, сам не зная куда. И вдруг останавливаюсь, потому что наступает тишина. Нет, по-прежнему кричат люди, по-прежнему гудит пламя и рвутся бомбы, но все это где-то вне нас, вне меня и девочки, которая лежит на моих руках. Только мы вдвоем окружены тишиной, только мы никуда не бежим, потому что нам уже некуда бежать. Она смотрит на меня большими усталыми глазами, а сердце ее молчит.
У памяти свои законы, но все же почему оно пришло ко мне, это страшное воспоминание, в тот момент, когда я посмотрел на шею девушки, сидящей рядом со мной, на хрупкую ее шею, где возле ключицы билась голубая жилка. Почему? Я посмотрел на нее и отвел глаза, подумав, что та, погибшая, наверное, не намного была бы сейчас старше этой, если бы осталась жива.
— Сколько лет-то тебе? — спросил я.
Она повернула голову. Она смотрела на меня изучающе и словно даже с непонятной усмешкой, совсем без боязни, без робости, — откуда я это выдумал, что она боится меня?..
— Восемнадцать, — ответила она. Ответила странно, с вызовом, будто сообщила какую-то угрожающую мне новость. Я увидел ее прищуренные, настороженные, недобрые глаза. Нет, это не глаза просителя, я рано расчувствовался, мне хорошо знаком такой взгляд. В нем ожесточение, упрямство, а через секунду загорится ненависть. Что означает такой взгляд, я понял только в последнее время, понял, чтобы уже никогда не забыть, хотя еще недавно люди с таким взглядом вроде бы даже забавляли меня, и я отмахивался от них, как от назойливых мух, не зная, что у мух этих осиные жала. Они жужжат, эти мухи, громче самого сильного мотора, они ревут, как быки, как сирены, и будь у тебя хоть луженая глотка, тебе их не перекричать. Во всяком случае, я не сумел перекричать. Они не имеют возраста, эти мухи, им может быть и двадцать два, как Пашке Цыганкову, и девятнадцать, как его подпевале Шурке Харламовой, и пятьдесят с гаком, как Распевину, начальнику первого цеха. Нет, теперь меня не забавляет этот взгляд, теперь при виде его я прихожу в бешенство.