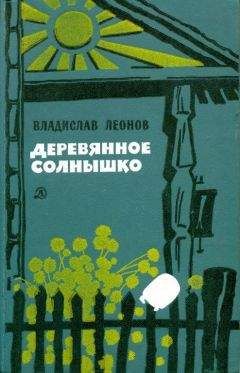— Ага! — отозвался незнакомец, залезая в трактор.
— Мне на ферму надо, — сказал Бабкин, забираясь следом.
Незнакомец беспечно откликнулся:
— А мне все равно куда!
Он поерзал, усаживаясь поудобней, и вдруг схватился за рычаги:
— Слушай, дай я врежу! Я ведь сам механик, все могу!
Бабкин отодвинул руку механика, спихнул с педали чужой сапог и двинул милый трактор бережно, как вазу по столу.
Механик снова заерзал, наклонился к Бабкину:
— Еле успел! Перед самым закрытием! А купил что хотел!
Бабкин молчал. Механик, привалясь к спинке, недовольно поглядывал на него. Он еще не успокоился, ему нужно разговорами облегчить душу, остыть.
— Хорошая у тебя машина, — снова наклонился он к Бабкину.
Но тому не до пустопорожних разговоров. Он весь устремился вперед, с напряжением глядит в темную воду, выискивая путь на ощупь, гусеницами. Вот гусеницы попали в наезженную колею, сразу стало легче рукам. Бабкин повеселел. «Хорошая ты моя лошадка, добрая», — ласково подумал он.
Механик закопошился в кармане, и по кабине сквозь душок солярки прошел вдруг незнакомый Бабкину веселый светлый запах.
— Во! — показал механик красную коробку. — Духи! Ее любимые. Еле успел захватить. Перед самым закрытием.
Трактор тряхнуло, Бабкин стиснул рычаги. Губы его сжались в круглый комочек, глаза сузились.
Навстречу, точно с такими же санями на прицепе, выплыл другой трактор. В санях тесно друг к другу стояли телята.
— Эй, Бабкин! — высовываясь, закричал водитель. — Дай солярочки!
Они остановились. Бабкин вытащил резиновый шланг, опустил его в свой бак, пососал губами. Пока горючее текло в ведерко, Бабкин тихо спросил, кивая на сидящего в кабине механика:
— Что за гусь?
— У-у! — раскатился в улыбке тракторист. — Лихой парень! На все руки от скуки! Орел. Заводской.
— А-а, — вспомнил Бабкин. — Знаю: шефы они, соломорезку делали.
— Точно! — высунулся механик. — Это мы. Мы много тут всего понаделали. — Нос его поморщился, снова блеснули молодые зубы. — А ты, значит, Бабкин? У которого тетка?..
— Которая возле конторы висит! — охотно подхватил тракторист. — Которая...
Бабкин быстро повернулся к нему — тракторист поперхнулся и полез к себе в кабину. Бабкин снизу вверх темновато посмотрел на веселого механика.
— Вылезай! — еле ворочая челюстями, выдавил он.
Механик заглянул в его непонятные глаза и, смахнув улыбку, шустро полез из кабины.
— Стой, друг, погоди! — закричал он, бросаясь за гружеными санями. — Меня захвати!
Он вскарабкался в другой трактор, а Бабкин, чувствуя за спиной насмешливые взгляды, глубоко вздохнул, поправил шапку и поехал дальше.
Длинная климовская ферма, старая, деревянная, с замшелой крышей, одиноко стояла на малом пригорке. Над нею и за нею было только небо, розовое, густое. Возле фермы ходили люди, черные по розовому. Четко отпечатывался человек в шапке, телогрейке, на деревянной ноге. Бабкин узнал климовского управляющего Трофима Шевчука, старого солдата и совхозного ветерана. Трофим никуда не хотел выезжать из своей бедной Климовки, он горой стоял за милые его сердцу пески и десятый год грозился собрать с них такой урожай, какого в районе не видывали. Годы шли, Трофим старел, а урожая все не получалось.
Молодежь давно убежала от упрямого Трофима в другие бригады, дома в Климовке заколачивались, но сам Шевчук помирать собирался только в своем бревенчатом домишке на краю деревни. Когда ему предлагали перейти на другую работу в совхозе, повыше и почище, старый солдат неизменно отвечал: «Я за эту землю кровь проливал! Я с земли этой никуда не двинусь!»
Трофим стоял и приглядывался, кто это к нему пожаловал. Увидев Бабкина, вылезающего из кабины, он не захотел скрывать досады.
— Ты? Я-то надеялся, что Ивана Петрова пришлют.
— Заболел Иван, — ответил Бабкин. — Я вместо него.
Трофим махнул рукой и, тяжело ныряя плечом, побрел к Варваре — к своей кобыле, верной спутнице его беспокойной жизни.
«Ну и ладно! — хотелось крикнуть Бабкину. — Я и уехать могу! Подумаешь, ферма! Дворец чертов!»
Однако ничего такого парень не сказал, а только вздохнул и стал помогать женщинам выводить молодняк. Полая вода уже подступала к скотному широкой подковой. Тракторные сани, что привез Бабкин, всплывали, и телята никак не хотели забираться на них. Они упирались всеми четырьмя копытцами, смотрели на прибывающую воду большими тоскливыми глазами, тягуче мычали, запрокидывая головы, и норовили спрятаться под локоть телятницы.
— Не бойся, парень, — стыдил Бабкин лобастого, уже здо́рово рогатого бычка. — Такой здоровенный, а трусишь. Ну, шевели копытами. — И гладил по мягкой, подрагивающей коже.
Когда потемнела река, и погасло небо, и со всех сторон ощутимо потянуло лютой сыростью, телята лежали в соломе на санях. Отворилась дверь, и человек, уже плохо различимый в темноте, крикнул:
— Давай, Бабкин!
«А чего давать?» — не понял парень.
Он зашлепал к воротам телятника. Вода уже вовсю хозяйничала здесь. Она текла по земляному полу, похлопывала поросячьи бока кормовой свеклы, шевелила сено в кормушках.
Бабкин остановился возле дверей родильного помещения. Он увидел халат ветеринара, огромный, раздутый коровий бок. Трудно телилась Звездочка.
Бабкин встал позади коровьего доктора, страдальчески сдвинул брови.
— Может, чего надо, а? — спросил он. — Помочь чем?
— Уезжай, парень!
Бабкин затряс головой, и доктор устало рассердился:
— Трогай, тебе говорят! Еще успеешь за нами вернуться!
Бабкин побежал к выходу.
В проходе заплескалось. Бабкин поднял голову и остановился. Навстречу ему с огромным ножом в руке размашисто шагала старшая телятница, глазастая и тощая тетка, по прозвищу Лешачиха, в телогрейке, перетянутой солдатским ремнем, в резиновых сапогах, из-под платка выбивались сивые старушечьи волосы. Лешачиху боялись. Ее черного глаза опасались в деревне, и младенцев ей не показывали. А когда шла она по деревне, сутулая, длинная, с папиросой под ведьминским носом, молоденькие девчонки, примолкнув, сторонились ее.
Лешачиха начала курить после смерти своего мужа, ветеринарного фельдшера. Сперва тянула тайком от людей. Но когда угодил в колонию ее единственный сын, засмолила в открытую. Она ни с кем особенно не дружила, не имела и врагов, кроме тетки Бабкина, про которую сразу же после суда сказала: «Убить ее, проклятую, мало!»
Теткина вина не была доказана, однако в совхозе упорно поговаривали, что именно она напоила малого самогонкой, после чего Лешачихин Женька и подрался в совхозном клубе в безобразном пьяном виде. В том же клубе мальчишку и судили. Показательно, на виду у всех, чтобы другим повадно не было. Когда зачитали приговор, Лешачиха громко сказала, обращаясь к бабкинской тетке:
— У тебя зимой снега не выпросишь, так за что ты моего Женьку поила? За что?
Женьку увезли, а тайна осталась. Люди стали забывать про все это, только Лешачиха крепко помнила и нехорошо смотрела на тетку из-под темных бровей.
— Ты?! — спросила она теперь теткиного племянника. — Ты зачем тут?
Она с маху всадила нож в деревянный столб. Нож, подрагивая, зазвенел. Бабкин понял, для кого он может понадобиться, и, оглядываясь на дверь родилки, поежился.
— Может, лекарства какие привезти? Я быстро!
— Иди ты к своей постылой тетке! — ответила Лешачиха.
По воде, по звездам раскатывался Трофимов голос:
— Ба-абкин! Эй, Бабкин! Где ты там?
— Оглох, что ли? — пробормотала Лешачиха. — Тебя зовут.
Бабкин залез в кабину, включил фары. Возник молочно-голубоватый коридор, за которым дрожало, чернело, подступало неведомое море, глухое и жуткое, и на сто верст вокруг. А на санях, в соломе, пригревшись, терпеливо лежали телята. Трактор двинулся, медленно, вперевалочку, пугливо похрапывая на воду. Его железные бока била дрожь. Сзади плыли сани. Когда немного отъехали, Бабкин оглянулся. Посреди разлива стыли огни: четкие, острые — это на столбах у фермы, длинные, дрожащие — их отражение в реке. Вокруг огней была плотная ночь.
И вдруг все утонуло во мраке — и огни, и их отражение. Бабкин остановил поезд, вылез на крыло.
— Эй! — закричал он, приложив ладони к губам. — Что случи-илось?!
Ответа не последовало. Тогда он развернулся и тронул обратно. Его встретила Лешачиха с коптящим керосиновым фонарем в руке.
— Свет отключили, — кратко сообщила она. — А движок не заводится.
Ферма была старая, кое-где чернели щели, бока у стен выпирало, Трофим не успевал ставить подпорки. Подгнивали и падали столбы, их опять поднимали, привязывали к бетонным трубам. Новых столбов Трофиму не давали — ферму собирались ломать. Трофим упирался.
«Я эту ферму своими руками создал, а вы — ломать. Я здесь свою молодость положил, а вы — сносить!»