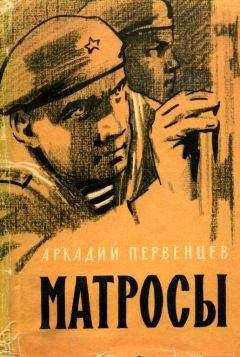Квартиру получили недавно, после долгих мытарств. Прежняя комната была оставлена без сожаления, хотя имела высокие потолки и широкое, во всю стену, итальянское окно, источник сырости и простуд. Там начиналась их семейная жизнь, там родилась дочь, оттуда вынесли в белом гробу, по-кержацки, строгую мать жены.
В новом жилье они были рады всему: своей кухоньке, прихожей, двум комнатам, отдельному ходу. Дочь оставалась равнодушной к родительским переполнениям чувств. К своей комнатке она быстро привыкла, на первых порах повосторгалась подмосковным ландшафтом, открывавшимся из ее окна с высоты голубиного полета.
— Если не возражаешь, жена, разрешим сегодня по чарке, — предложил Дмитрий Ильич с заискивающим выражением на чуточку повеселевшем лице — кагор не произвел впечатления, не сумел добраться до жил.
— Ты бы смерил температуру. Не простудился ли.
— Термометр — признак болезни.
— Хорошо. Я водку подам…
— Если не ошибаюсь, у нас задержались в резерве главного командования грибки и огурчики?
Как и многие мужчины в преддверии стопки, Дмитрий Ильич называл закуски уменьшительными именами.
«Надо жить легче, щадить семью. Меньше деспотизма. Не приносить с собой мрак. Сомнительные объяснения по письму не затевать. Все само собой образуется». Возникали умиротворяющие мысли. И тут совершенно некстати — телефонный звонок. Лучше не подходить. Он сделал выразительный жест: «Покой так покой, огурчик так огурчик».
— Неудобно, — сказала жена. Для нее телефон был окном в мир, и она без всякого предубеждения относилась к этому бичу нервной системы. — Может звонить Зоя…
Через минуту сухой ее голос размягчился, в нем заиграли живые и, пожалуй, кокетливые нотки:
— Дома, конечно, дома, Лев Михайлович! Он рядом… вырывает трубку. — Подозвала глазами мужа: — Бударин.
Дмитрий Ильич весело поприветствовал дружески расположенного к нему вице-адмирала Бударина, продолжавшего с прежним комсомольским жаром заниматься делами прогрессирующего подводного флота.
Игривый тон, обычно сопровождавший общение с неунывающим, проперченным прибаутками и моряцким жаргоном адмиралом, быстро погас. Дмитрий Ильич перехватил трубку в левую руку, присел у тумбочки, по привычке щелкнул шариковой ручкой.
— Невероятно… Лезгинцев?
— Что случилось? Что-то с Лезгинцевым? — Жена присела рядом, почуяв недоброе, но, кроме густого рокота бударинского баса, ничего уловить не могла. — Я так и знала… так и знала…
— Что ты знала? — Дмитрий Ильич положил трубку. — Где письмо?
— Вот оно. — Она проследила за тем, как муж осмотрел конверт и вытащил клочок бумаги и фотографию Зои.
— «Зоя! Прости и прощай. Юрий». — Дмитрий Ильич перечитал запрыгавшие буквы, обратился к жене: — Где она?
— Ушла позвонить… в Ленинград.
— Письмо из-под Ленинграда. Кому она будет звонить?
— Подруге. — Попросила сдавленным голосом: — Пожалуйста, принеси мне воды. — Отпив два глотка, сказала мягко: — Митя, нам надо быть вместе… душой. В такой момент нельзя иначе… Нам никто другой не поможет. — И твердо спросила: — Он… умер?
— Да. — Он быстро допил остаток воды. Его голос звучал глухо, будто через стенку: — Вернее, погиб. Его нашли возле железной дороги вчера, в снегу. Девятнадцатый километр…
— Несчастный случай?
— Неизвестно. Во всяком случае, ужасно. Молодой, энергичный — и такая нелепица… — Дмитрий Ильич перечитал письмо, жестко предупредил: — Только не занимайтесь болтовней.
На площадке остановился лифт. Захлопали двери. Шумная компания проследовала в соседнюю квартиру. Жена подождала, пока там затихнет.
— Бывало, и Юрий Петрович, помнишь, соберет целую ватагу…
— Один раз и было, — остановил ее Дмитрий Ильич, — его-то нельзя упрекать. Хотя лучше водил бы хороводы. О письме, еще раз прошу, молчите.
— Что я, враг своей дочери?
— Как все обернулось! — Дмитрий Ильич спрятал письмо в коричневую тетрадь. — Ты интересовалась? — взглядом показал он на тетрадь. — Мне вручила ее доченька.
— Интересовалась.
— Что здесь?
— Сам почитаешь. Фанты.
— Фанты? — ему стало жаль жену. Она сидела понурившись, в глубоком раздумье. Скатилась слеза по щеке. — Не переживай… Тоня. Хотя письмо явного самоубийцы, но, возможно, чужая рука.
— Враги, что ли? — Она отмахнулась. — Только им и делов…
— Лезгинцев был неуравновешенным человеком. Особенно последнее время. Товарищи за ним замечали. У него сидела в башке какая-то чертовщина… — Раздражение его усилилось.
— Не надо так, Митя. Если и сидело, то только одно. Он жаловался на голову. Пилюли ему не помогали. Глотал что-то свое — не помогало. Чуть что: «Антонина Сергеевна, ужасно болит голова…». — Жена поднялась, строгая, неулыбчивая, иногда она становилась кержачкой. — Голова могла довести до чего угодно. У меня дед сгорел головой. А какой был мужчина! На медведя с ножом… Первую звериную кровь пил. А ваши подводные лодки… Если от газовой горелки можно помереть…
Бударин еще раз позвонил. Он вылетал в Ленинград в составе специальной комиссии, утвержденной главкомом. Факт посылки комиссии о многом говорил.
— Татьяна держится молодцом, — сообщил Бударин. — Причины гибели неясны. Если решите отдать последний долг — с крышей не беспокойтесь. Забронируем в «Астории»… Нет, нет, хотя и зима, с гостиницами по-прежнему туго. Финны наплывом, пушной аукцион, медики симпозируют…
Молча накрывали на стол. Что-то до конца не выясненное мешало им поступать, как обычно. Чужое горе не миновало их семью. Хотя вряд ли гибель Лезгинцева можно было назвать чужим горем. В кругосветном походе на «Касатке» Дмитрий Ильич несколько недель провел в одной каюте с командиром электромеханической боевой части инженер-капитаном третьего ранга Юрием Петровичем Лезгинцевым. Морское товарищество закрепилось на суше.
— Я бы советовала тебе выехать в Ленинград, — сказала жена за столом. — Юрий Петрович для нас не случайный знакомый.
— Поездка сопряжена со многим… — Дмитрий Ильич с маху выпил вторую рюмку, поймал грибок.
— Если остановка за деньгами, я найду, — продолжала она.
— Где?
— Костюм я так и не сумела купить. Не было моего размера. Если не хватит, у кого-нибудь одолжишь. У того же Бударина. А поехать надо, Митя.
После водки по телу разлилась приятная истома. Мысли потекли спокойней, благостней.
— Право, не знаю. Буду ли к месту? Если Татьяна держится… Ты сама понимаешь, следствие неизбежно. Вынырнешь ни к селу ни к городу. У них свои дела. У военных. Надо учесть специфику. Лезгинцев не просто офицер…
— Юрий Петрович прежде всего твой товарищ. При чем тут следствие? Ты приедешь проститься с покойным, отдать свой долг. И специфика не имеет значения для тебя. У нас как-то странно повелось. Забыли многое… Умер человек — ну и что ж… Какое-то безразличие… Нет на вас кнута! Поразительное, постыдное равнодушие…
Ну, если уж уралка возьмется, берегись! Пока нет причин — и тихая, и смирная, и будто бы незаметная, а подогрей, доведи до белого каления — спуску не даст.
— Не надо, — попросил он, — убедила.
— Я тебя соберу.
— Только самое необходимое, — попросил Дмитрий Ильич. — Хотя не беспокойся. Возьму свой журналистский чемоданчик — и все.
— Когда похороны?
— Бударин сказал — завтра. Тело привезут в Матросский клуб, на площадь Труда.
— Подумать только… тело привезут. — Антонина Сергеевна кончиком косынки промокнула глаза. — Ты письмо захватишь с собой?
— Какое? — Дмитрий Ильич встрепенулся. — Его письмо?
— Да.
— Зачем?
— Будет следствие. Может быть, поможет что-то выяснить… — Она говорила невнятно, будто в полузабытьи.
За ужином Антонина Сергеевна не притронулась ни к чему. Ее состояние и пугало и раздражало мужа.
— Тебе обязательно хочется втянуть в эту историю нашу дочь? — спросил он резко. — Вы, женщины, дальше своего носа ничего не видите. Теперь не знаю, не уверен, нужно ли мне туда…
Требовательно зазвонила междугородная. На проводе — Ленинград. Татьяна Федоровна требовала приехать. «Приезжайте, расхлебывайте», — звучало угрозой.
— Лезгинцева? — догадалась жена. — Что она?
— Ничего особенного. — Дмитрий Ильич покорно снес тяжелый подозрительный взгляд. — Просила обязательно приехать. Успею на «Стрелу». Зое ничего не говори.
— Почему? Зоя дружила с Юрием Петровичем.
— Ну и что, если дружила?! — он взорвался. — Мало ли чего! Что же теперь, афишировать, идти за гробом второй вдовой? Поразительно, как ты рассуждаешь. Если бы ты знала, что́ та сказала… — Он осекся, но было поздно, пришлось выдержать стремительную атаку и, сдавшись, все рассказать.