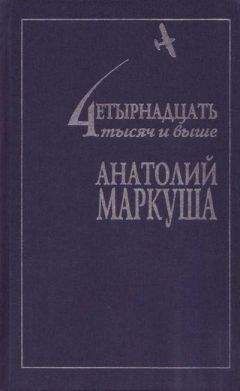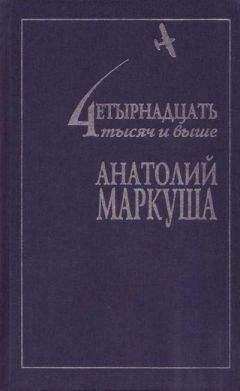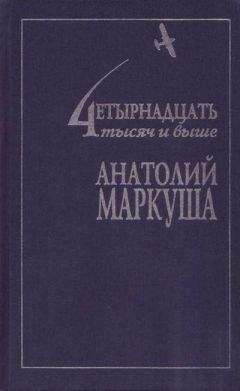Улетел неспокойный, вернулся расстроенный: перехват не состоялся, мы опоздали. Конечно, такое бывает и даже нередко, но кому с того легче? Заруливаю на стоянку и вижу — около моего капонира ошивается начальник связи. Майор не просто бабник, а по общему мнению летчиков, порядочная подлюга, и, наверное, не зря говорят, будто он заманивает в свою землянку девчонок и употребляет их весьма странным способом. В его землянке на высоте сантиметров семьдесят натянута парашютная стропа, от стены к стене. Он подводит к этой стропе девчонку — спиной — и неожиданно толкает. Девчонка зависает, туда — сюда покачивается, а этот гад сдирает с нее сапоги и прочее другое обмундирование. Вся эта операция исполняется одной рукой, другая занята тем, чтобы поддерживать в равновесии тело жертвы. Землянка его на отлете вырыта, хоть караул, хоть помогите кричи, никто не услышит. В таком качающемся виде он и употребляет девчонок. А на прощанье майор говорит, если кому и расскажешь что и как было, никто тебе не поверит. На стропе он тебя… да ты в своем уме? Лучше молчи, не срамись.
Но слух полз. И дыма без огня не бывает. И когда я того засранца у своего капонира засек, сразу проинтуичил — не иначе, как эта сволочь на подранка глаз положила. И ведь своего добьется. Пусть он не прямой начальник, но все равно — старший, а девчушка безответная, только из десятилетки выскочила, по моим наблюдениям непременно за первыми партами сидела. Надо пресечь. Пресечь, пока не поздно.
Знаю, действовал не «по уму». Душа велела. Что она такое — душа — выразить не сумею, но с тех пор, как похоронил моего главного друга, все чаще замечаю — все чаще подчиняюсь этой загадочной даме. Душа велит, и нет сил отказать! И тогда чувствовал — с трудом сдерживаюсь, однако действую, как обычно — сбрасываю с плеч парашют, приветствую старшего по званию, вежливо прошу: «Можно, товарищ майор, вас на два слова?»
Мы отошли за капонир. Тут было уединенно и тихо, только голоса птиц слышались. Говорю: «К девчонке не приближаться…» Договорить не дает, вскипает: «Как ты смеешь, нахал…» Но и я отпускаю вожжи: «Так вот и смею, падаль… Для верности держи аванс», — бью расчетливо — в губы, со всей силы. — Теперь можешь идти, кто станет спрашивать, будешь говорить, упал мордой вперед. Еще раз увижу, приближаешься, убью».
Что говорить, действия мои были рискованными и, конечно, не лучшими со стороны тактики, мог напороться на огромные неприятности, но с другой стороны — не должно добро вечно стоять в глухой обороне, когда зло атакует.
Спустя много лет, не помню даже по какому поводу, я рассказал об этом случае моему другу. Он выслушал, помолчал, задумчиво покрутил в руках карандаш и сказал: «Странно, действий твоих я не могу, конечно, одобрить, но с другой стороны — понимаю и не знаю, как бы сам поступил, окажись на твоем месте».
Как много порядочных, правильных людей, и как же часто они предпочитают сохранять нейтралитет, а потом страдают, ищут себе оправдания пылят пустыми словами… Знать законы совести — одно, а вот жить по этим законам совсем-совсем другое…
Странное дело, давно замечаю — очень разных людей почему-то занимает все самое большое, самое маленькое, самое первое и самое последнее, словом, самое-самое. Долгое время мне представлялось, что такое любопытство обратно пропорционально образовательному цензу, вообще интеллектуальному уровню любопытствующих, но однажды мой главный Друг, человек и великолепно образованный, и без всякого сомнения не только остепененный, но и на самом деле умный, поинтересовался, не случалось ли мне париться или может быть принимать душ в обществе летчика… Не сразу сообразив, что может скрываться за столь странным вопросом, ответил беспечно — случалось и не однажды. А что?
«Это правда, будто у него немыслимых размеров это самое хозяйство?» Крайне удивленный я ответил: «Господи, о чем ты спрашиваешь? Ну, правда, свисает почти до колена. И что? Тебе-то какая разница?» Он усмехнулся: «Так интересно же. И это в спокойном состоянии?..» Не понимаю, чего тут морщиться».
О том самом летчике меня расспрашивала и коллега — летающая дама, инженер с незапятнанной репутацией. Во-первых, она хотела получить авторитетное подтверждение, «что девочки болтают не напрасно», а во-вторых, просила помочь войти в «контакт» с такой выдающейся личностью. Прежде они были знакомы лишь шапочно, а она имела некоторые «деликатные намерения».
Для чего рассказываю об этом? Многие годы нам упорно внушали: все, что ниже пояса, обсуждению не подлежит, Если верить пропаганде минувшей поры, получалось — секса в нашей стране вроде бы не существовало, хотя и дети рождались, а по числу абортов на душу населения страна прочно удерживала первое место в мире. Признаюсь, терпеть я не могу чужестранное понятие секс, само слово, а не то, что связанно с интимными отношениями, с переживаниями в предвидении и во время соития. Это, как раз, и занимало и тревожило постоянно. Уверен, повышенный интерес к взаимодействию представителей разных полов явление безусловно нормальное и типичное для подавляющего большинства физически здоровых людей. Но я вовсе не собираюсь эксплуатировать эту ставшую нынче модной тему, хотя наблюдать прорыв ханжеских табу нашего прошлого меня радует и толкает на некоторую фривольность. Если кого-то такое может покоробить, пожалуйста, извините старого пилотягу. Всякое завещание, я думаю, требует не только предельной правдивости, но и абсолютной откровенности.
А сейчас вернусь в мой капонир военного времени. Подранок, увидев, что боекомплект мной не использован, встревожилась: «Почему не стреляли, командир?» Объясняю: «Не в кого и не во что было стрелять. Мы берег фотографировали. Ясно? И надо было всенепременно вернуться и привезти пленки». Славная девочка беспокоилась — не отказали ли пушки. В ее представлении война без стрельбы не могла происходить. Впрочем, одна ли моя оружейница жила в таком заблуждении? Вспоминая дела военных лет, ловлю себя на том, что больно часто улыбаюсь. Чему бы? Даже если улыбаюсь с грустью, не напрасно ли? Даже не знаю, как ответить. К примеру, хотелось бы понять: для чего вообще таких ясноглазых девочек, как Подранок, посылали на фронт? Неужели без их участия одни мужики не совладали бы с немцем? С подлым расчетом призывали девчонок в армию. В те времена ни о какой проституции речи, конечно, быть не могло. В нашей армии не существовало, понятно, военно-полевых борделей, особо офицерских, отдельно — солдатских. Такого не допускала наша идеология. Исключение сделали Куприну, разрешили опубликовать «Яму». За нашей нравственностью бдительно наблюдал политаппарат, готовый всякому пришить «аморалку». На словах все выглядело куда как нравственно, а на деле блуд шел несусветный, при этом с нахальным использованием служебного положения, в том числе и комиссарского.
Прилетел с задания, захожу в землянку, застаю там пилотягу из соседнего звена. Назову его, чтобы как-то обозначить, Бойко. Вижу, Сашка притулился у подслеповатого окошечка и осторожно вспарывает самодельной финкой с роскошной наборной ручкой нитяную обмотку парашютной резинки. Удивляюсь: «Что ты делаешь?» Хмыкает: «Минутку, парень, терпения… Сейчас продемонстрирую».
Добыв тонкую резиновую жилочку, он отмеривает сколько-то, режет и связывает колечко, оставляя на узелке топорщащиеся усы. «Готово! Надевай смело на… и — вперед! От моих шпор любая баба балдеет… Бери, сам проверишь.
Тогда мне Сашкино изобретение показалось диким, откуда я мог знать, что пройдет не так уж много времени и сперва в Японии, а следом и у нас появятся фабричного производства презервативы с усами. Скажи мне тогда кто-нибудь, что я доживу до времени, когда в нашей бывшей школе девочек будут обучать натягивать презервативы на бананы, ей богу, я бы посчитал того информатора душевно больным. Многое, очень многое изменилось в нашем мире, хотя и не все. Меня, случается, спрашивают нынче, как я в первый раз женился? В семнадцать с половиной лет мало кто умеет толком контролировать свои слова и поступки. Я не составлял в этом отношении счастливого исключения, хотя уже имел кое-какие навыки в пилотировании учебного самолета У-2, прыгал с парашютом и старательно прикидывался взрослым, этаким бывалым парнем. С будущей моей женой познакомился на танцах. Первое, на что обратил внимание, была не ее красота, поначалу я как-то даже не разглядел ее внешность, а неожиданный иностранный акцент. Постепенно выяснилось, она из Австрии, дочь шуцбундовца. После разгрома коммунистического восстания в Вене большую группу ребят этих самых шуцбундовцев вывезли в Москву, поселили в шикарном интернате, учили, воспитывали. Ребята довольно быстро освоили наш язык, правда, говорили с заметным акцентом.
Стоило моим родителям уехать на курорт, как я решил — надо форсировать события, благо обстоятельства тому благоприятствуют. К тому же я заметил, наконец, многие мужики провожают мою девушку весьма красноречивыми взглядами, оборачиваются ей вслед. До меня дошло — она не просто симпатичная, она — красавица! Велел себе — действуй! Для начала наговорил ей всяких сопливых слов — они мне казались неотразимыми тогда — и сразу перешел к решительному штурму. Но был деликатно остановлен. Она сказала: «Нет. Вот когда ты сможешь выразить все, что только сейчас произнес, по-немецки, тогда, вполне вероятно, их антворте — я…»