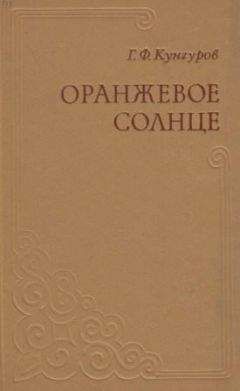Дорж упал на лежанку, плотно закрылся одеялом. Губы его шептали: «Прав отец. Не торопись топтать старое...»
Утром в юрте Цого поднялись рано. Дулма успела напечь лепешек, сварить мясо. Завтракали молча. На прощание Дорж не удержался:
— Не сердись, отец, говорить об овцах не буду... Ты победил...
Цого рассердился, даже сплюнул в гневе на сторону, прошелся по юрте, схватил сына за руку:
— Какая победа?.. Только весна может назвать победителя...
Цого спрятал трубочку за пазуху, заторопился, и вместе с сыном они вышли из юрты.
...Степь. На желтой поляне, у речки, стоит белая юрта, словно опрокинутая кверху дном пиала, у дна отверстие, из него, стремясь ввысь, струится дым. На ближнем склоне увала вторая, дальше третья. Это сурь, председателем которой Бодо. Члены ее престарелые пастухи, пасут они либо овец, либо коров, что пожелали при распределении обязанностей. Из сури выбыл и уехал из этих степных мест старейший член Цого. Отару его овец пасут другие.
...Люди приходят и уходят, а травы зеленеют, скот умножается — живет степь вечной жизнью, только меняет наряды: зеленый на желтый, желтый на белый...
В юрте Бодо и его жена Харло. Сидели они утомленные, опустив руки, на кошмовом узорчатом коврике. Оглядели юрту, будто бы все вещи на своих местах. Красиво в юрте. На женской половине пышная лежанка, отделяет ее шелковая светло-розовая занавеска с рассыпанными по ней синими и голубыми цветами.
— Ей понравится, — говорила Харло, — это ее любимый цвет.
После окончания курсов в Улан-Баторе их дочь Цэцэг обрадовала: получила отпуск, едет к ним отдохнуть. Соскучилась по родной юрте. В письме пишет. Где оно? Да вот оно, пишет, что уже обдумала, как проведет время. Чего тут только нет... На саврасом жеребчике всю степь объездит, будет гонять овечек на водопой, на жирную травку, утром пить парное молоко, а когда проводит солнце, сладко вытянется на своей лежанке, попросит отца приподнять покрышку, чтобы ветерок со степными запахами гулял по юрте. Побывает в тех местах, где кочевала юрта почтенного Цого, напьется студеной водички из родника молодости. Потом уедет к скале, к ущелью, в котором спасалась от бури с Гомбо, и останется там до вечера. Не забыла и Теплое озеро. Она стояла на сером камне у самой воды, пела веселые песенки, а Гомбо и Эрдэнэ хлопали в ладоши.
Старики перечитывали письмо, и каждый раз открывалось в нем новенькое.
...День загорался и угасал. Много их сменилось. Цэцэг не приезжала. Может, задержалась в аймачном центре; нет попутной машины; может, стала городской неженкой, в дороге заболела. Подбрасывая аргал в печурку, Харло рассказывала мужу сон, который видела сегодняшней ночью. Бодо слушал плохо, снам не верил, они ему никогда не снились. Жена заволновалась:
— ...Бежит Цэцэг по склону горы с полной охапкой цветов, и все они красные. Букет большой, даже лица Цэцэг из-за него не видно...
Харло вздохнула:
— Красное — хорошо. А вот лица не увидела — плохо...
Муж махнул рукой, поднялся, пошел из юрты.
— Сегодня Цэцэг приедет; мне не сон твой, а мое сердце подсказывает... Угощение готово? Может, съездить в магазин, купить что-нибудь?..
— Ничего не надо, все припасено...
Солнце поднялось выше Синей скалы. Вышла Харло из юрты, что это? Бодо оседлал лошадей, буланого и саврасого. Куда это он?
— Поеду на Центральную усадьбу госхоза, может быть, Цэцэг уже там, мы с нею и приедем...
Из-за голого увала, который с незапамятных времен называется Бычий лоб, вынырнул «газик». Куда он держит путь? Бодо и Харло следили за машиной. Вот она помчалась по серой песчаной плешине, потом скрылась в долине, взлетела на пригорок и направилась к юрте Бодо. Собаки встретили лаем, хозяин отогнал их. Из кабины вышел Дорж, улыбается:
— Принцессу вашу привез!
Каждый вкушал сладость встречи с родными, если эта встреча родителей с дочерью, давно покинувшей родную юрту, такая встреча — золотая чаша, до краев наполненная радостью... Родители и не заметили, как Дорж унес в юрту чемодан и узелок Цэцэг, и опомнились, лишь когда он садился за руль, чтобы уехать. Бодо замахал руками, подбежал к машине:
— Дорогой Дорж, заходи в юрту, разве ты не наш гость?..
Дорж остановился и начал расточать похвалу «газику»: послушен, быстр, вынослив, его купили в Советском Союзе. Едва ли Бодо вслушивался в слова Доржа, а Харло уже давно скрылась с дочерью в юрте. Вдруг дверцы открылись, Харло звала:
— Скорее идите, все уже на столе...
Дорж отговаривался, он торопится, у него неотложное дело: надо побывать на далеких пастбищах. Раньше потратил бы три дня, а на «газике» уже к вечеру вернется на Центральную усадьбу. Чтобы не обидеть хозяев, не подточить устои монгольского гостеприимства, выпил большую чашу кумыса, закусил урюмом[3] и уехал.
Цэцэг, едва перешагнув порог юрты, пробежала по узорному коврику, раздвинула занавеску, упала на свою с детства милую ей лежанку, уткнулась в подушки и заплакала. Все в юрте казалось ей дорогим, близким и почему-то маленьким. Комод, расписанный желтыми, синими, оранжевыми красками, стол, скамейки — все миленькое и совсем-совсем игрушечное...
Мать торопила ее к столу, но Цэцэг выскочила из-за полога, подпрыгнула козочкой, поцеловала мать в щеку и опять скрылась за занавеской:
— Я не голодна, угощалась у Доржа. Сейчас переоденусь... Хотите спою вам песенку. Слушай, мама, тебе посвящается, мотив я сама придумала.
Юрту огласил ласковый голос:
Хотя шестой десяток за моей спиной,
Я все-таки хочу быть снова молодой,
Чтоб степь родную не спеша пройти
И чтоб тебя, мой дорогой, найти...
И я пошла, и рада бесконечно,
Ведь я нашла тебя, мой друг сердечный...
— Ну, как, мама, красивая, душевная песенка? Я знаю много новых песен, потом еще спою.
Она вышла на середину юрты в спортивном костюме. Тонкая, ловкая, сияющая. Подошла к комоду, постояла около зеркала. Отец и мать любовались дочерью. Она спохватилась, вскинула руки, как крылья:
— Забыла! Ой, пустая голова, привезла вам подарочки...
Открыла чемодан, матери подала большую резную шкатулку:
— Тебе, мама, для шитья.
Отцу набор светлых бляшек.
— Сама тебе седло разукрашу. — Склонилась к отцу, обняла, шепнула ему на ухо: — Для кого оседлан саврасый? Знаю, для меня... — выбежала из юрты.
Отец и мать поторопились за нею, но не успели и двух шагов сделать, Цэцэг была в седле, ударила коня плеткой и умчалась в степь. Мать сокрушалась:
— Ничего не ела, даже любимого урюма не попробовала, все на столе стоит нетронутое...
Отец улыбался, разглаживая седую бородку:
— Радуюсь... Крепко сидит в седле, не разучилась...
Мчалась Цэцэг по степи, мелькали серые заплатки — пески, вкрапленные в сплошную зелень; у реки копыта саврасого прогремели по звонкой гальке, вновь мягко опустились на зелено-желтый ковер. Где-то вдали слышались крики пастухов. Поднявшись на голый холм, Цэцэг осадила скакуна. Пусть передохнет. Выпрыгнула из седла, села на выщербленный ветрами и солнцем камень. Не тот ли это камень, не на нем ли сидели она, Гомбо и Эрдэнэ? Такая же расстилалась степь в серых, желтых, зеленых пятнах; так же щебетали пташки, пересвистывались сурки, только мошка была злее и прилипчивее. Шумели, спорили — далеко ли до той остроконечной горы? Что за нею, неужели тоже степь? Всех хотел перекричать Эрдэнэ. Гомбо молчал, жевал лепешку, намазанную маслом. Жара стояла, сбегали к реке, долго плескались...
...Цэцэг подтянула седло, поставила ногу на стремя, задумалась, вновь опустилась на камень. Глаза зажглись, улыбнулась:
— Отцу разукрашу седло медными бляшками, начищу, блестеть будет, как солнечные звездочки. Обещала, сделаю...
Улыбка погасла, Цэцэг помрачнела. «Нехорошо поступила, глупая я, не надо было так. Только вошла в юрту, за стол не села, а ведь мама старалась, заставила весь стол кушаньями. Мама мастерица украшать стол угощениями». Цэцэг была еще девочкой, а мать учила ее украшать стол, ожидая гостей. Вначале цаган-идэ — белая пища: густые молочные пенки, сушеный творог, пресный мягкий сыр, несоленое домашнее масло, прессованный творог, потом кумыс. После белой пищи подается мясо барашка, печень, запеченная в толстой кишке, и крепкий бульон. Завершается угощение наваристым кирпичным чаем.
Платком вытерла повлажневшие глаза, вздохнула: и мать и отец постарели, оба седые, в морщинах... Дорж рассказывал, что его родители ушли из сури на отдых. Пора бы и ее отцу и матери отдохнуть, оставить степь, пожить старичкам без забот, не кочевать по степи с места на место, не бежать чуть свет к скоту... Хотя почтенные Цого и Дулма не захотели жить в каменном доме, своя юрта лучше...