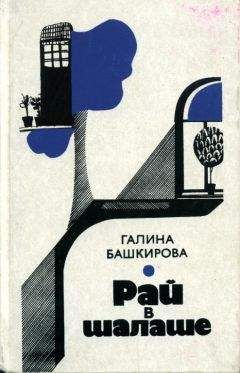...Лишь много времени спустя Таня догадалась, что Денисов невольно обеднил для нее эти первые, самые счастливые месяцы материнства: помогая Тане, он не дал ей насладиться, как это ни глупо звучит, трудностями. Оттесняя, отстраняя ее в самые решительные моменты, он не помогал ей приобретать опыт материнства — ловкие руки прирожденного экспериментатора делали все быстрее ее женских рук, так казалось Денисову, и Таня с покорностью этот порядок приняла, что во многом помешало ей потом в налаживании отношений с Петькой: в первые годы жизни он подчинялся только отцу...
Слишком многое в те первые младенческие Петькины месяцы зависело не от Тани — и режим питания, и сон, и категорический запрет приближаться к плачущему мальчишке с тем, чтобы его успокоить, и запрет подходить к нему ночью — в крайнем случае подходил сам отец. Правда, благодаря всем этим мерам Петька быстро научился не капризничать по ночам, и подходить к нему просто не было нужды, но Таню годами потом точила мысль, что они недодали ему нежности и ласки, что казарменный режим вещь удобная, но вот полезная ли для ребенка, неизвестно. И потом, опять-таки много времени спустя, Таня сообразила, что, в сущности, Денисов воспитывал Петьку по тому режиму, в котором рос у матери сам и который так не нравился ему, будучи на него направленным. Но главным все-таки было вроде бы освобождение, а по сути отстранение Тани от мальчишки в те часы, когда отец был свободен. Даже радости общения в детской поликлинике Тане не дано было испытать в полной мере. Особый, так называемый грудниковый день в поликлинике вызывал у Тани прилив вдохновения. Многочисленные коляски у входа, детский плач, слышный еще с лестницы, и ребята на руках у мам, бабушек, пап — в пеленках, ползунках, запакованные в одеяла, распакованные до голых ножек, беззубые, улыбающиеся, плачущие... И ревнивый огляд друг друга юных мам — спортивно-подтянутых, словно ничего и не было вовсе, никаких родов, и простоволосых, в ситцевых халатах; с тщательно нарисованной косметикой на лицах и распустех с несошедшими желтыми родовыми пятнами... целый мир открывался Тане на пороге поликлиники в грудниковый день. И в тепле нагретого дома, в тепле любви, не тронутой пока ни одним разочарованием, где каждый ребенок по-своему хорош, но твой, это же очевидно, самый лучший, шли захватывающе важные разговоры — о молоке, прикорме, о сне, о том, как набирает вес. Тысячи подробностей, казалось бы таких интимных, но таких похожих, тысячи семейных проблем, в каждой семье своих, но тоже похожих... Таня обретала силы в эти дни, она слушала советы, вникала в наставления старух, а Денисов, глядя на нее, раздражался Таниной общительностью и ворчал, что Таня опростилась, обабилась, и старался, быстро поговорив с врачом, увести ее возможно скорее. Районный детский врач Тамара Ивановна обожала Денисова и в ответственных случаях разговаривала только с отцом — так поставил дело Валентин. Однажды вместо мужа с Таней пошла в поликлинику свекровь, и было то же — холодок отчуждения, отдельность, незаметное старание отделить Петьку как можно дальше от других детей. Это было, по-видимому, их общее семейное свойство, с ним было невозможно бороться, но и смириться с ним тоже не было сил.
...Первое лето после Петькиного рождения они прожили втроем за городом. Возвращаясь вечером из Москвы, муж говорил с порога: «Ложись, я сам». Однажды ночью Таня призналась, что боится оставаться днем одна на пустынном участке, и, если от страха пропадет молоко, чем тогда кормить Петьку?
Под недостроенным домом деловито топали ежи, билась в окно ветка, плохо пригнанные к рамам стекла мелко дрожали, ветер гудел над лесом, словно подтверждая, что Таня права, пора уезжать, они здесь чужие. Валентин прижал ее к себе, гладил вздрагивавшие плечи: «Наплевать на молоко, наплевать на Петьку, — шептал он. Она слегка отстранилась, пытаясь разглядеть его лицо. — Хочешь, скажу правду? Я только тебя люблю, это плохо, да? Я тебя ревную к Петьке. До сих пор не догадалась?» Таня забилась, заплакала в его руках. А ветер все гудел, и ежи все топали под полом, устраиваясь ко сну, и одинокая ветка билась в окно, будто пыталась понять, что происходит в доме.
6
— Вам нравится именно здесь? — Константин Дмитриевич широко распахнул руки. — Здесь и вправду хорошо. Но лучшая точка на острове — возле церкви.
Цветков коротенько рассказал о пребывании поэта Мандельштама в Армении, о жизни его с женой на Севане, в этом же, подумать только, доме творчества, два месяца жил и всю жизнь потом вспоминал, об изучении им армянского языка. Таня о судьбе Мандельштама тогда еще ничего толком не знала, слушала открыв рот, и все-таки потом возразила:
— Зато отсюда Севан кажется морем.
— Морем? Иссык-Куль еще может показаться морем, только не Севан. Севан такой домашний, обмелевший. Иллюзии, всё иллюзии. По моим наблюдениям, женский мир построен на иллюзиях. Кончается одна, начинается другая. Вечный двигатель женской души. Разве не так? Всмотритесь в себя, вы сотканы из иллюзий.
В маленькой белой кепчонке, не заслоняющей от солнца и пригодной разве что для Прибалтики, Цветков расхаживал, вольно разбрасывая руки, по любимому Таниному пригорку. Ветер надувал широчайшие брючины, казалось, белые штанины, как два паруса, вот-вот оторвут профессора от горы.
— Любопытно было бы построить структуру личности женщины, выделив несовпадающие звенья с миром мужчин. Исследование нужно поручить женщине. Впрочем, виноват, еще король Генрих Четвертый сказал: «Людям ведома лишь противоположная половина рода человеческого, так, мужчины знают многое о женщинах и ничего друг о друге, женщинам же понятны только мужчины».
Могла ли она еще вчера вообразить его рядом? А он гулял по горе, наклонялся к травам, принюхиваясь, присматриваясь, присаживаясь на корточки, застывая подолгу на одном месте. Доставал бинокль и снова застывал, вглядываясь в далекие горы. Худобой, переходящей в одномерность, словно не было в нем тела, только силуэт на фоне неправдоподобно синего с утра неба, напомнил он тогда Тане борзую. И длинная шея, вытянутая навстречу чему-то...
...Исчезающая порода, редкость, не поддающаяся размножению. Три борзые, отрешенные, тонкомордые, не оглядывающиеся по сторонам, несвязанные ничем и ни с чем, прогуливались изредка, ведя за собой на поводке хозяйку, по Суворовскому бульвару в Москве. Собиралась толпа, восхищалась — длинные вытянутые морды, пренебрегая, проплывали мимо. Незадолго до отъезда ее на Севан они с Валей возвращались из «Колизея», смотрели там какой-то детектив. На Чистых прудах остановились поглядеть на лебедей. «На самом деле я люблю в жизни только две вещи — смотреть детективы и спать с тобой», — сказал муж. Вот тут и появилась борзая и застыла недалеко от них. Из соседней стекляшки, со второго ее этажа, слышалось «Горько», видны были мечущиеся силуэты, фонари дневного света мертвенно отражались в воде, лебеди казались призрачными, нарисованными на темной, пожухлой клеенке. Крики из стекляшки все нарастали: молодые стеснялись целоваться. Лебеди неторопливо уплывали в дальний угол. Борзая стояла очень спокойно: на нарисованную свободу лебедей ли она смотрела? Потом так же безмолвно, далеко выставляя передние лапы, отошла от решетки и, проходя мимо, взглянула на них.
...Константин Дмитриевич по-прежнему бродил вокруг, сосредоточенный на своем, чему-то своему улыбаясь. На Таню он не обращал внимания: получалось, что она невольно за ним подсматривала.
— Константин Дмитриевич, вы успели рассмотреть хранительницу церкви? Колоритная внешность, правда?
— Что вы сказали? Нет, я ее не заметил. Зато я зафиксировал обрывок ее фразы, она сказала экскурсантам о битве двенадцатого века: «Мы решили стоять до конца». Я зафиксировал ее «мы». Стилистически оно неуместно, психологически же великолепно: о событиях восьмивековой давности сказать «мы». Полное отождествление себя с историей, в одном местоимении — все величие народа.
— А когда у вас лекция?
— Какая лекция? — он запнулся. — Лекция назначена на послезавтра, — видимо, он совсем не умел врать. А может, и впрямь прилетел в Армению по делам?
— Значит, эти два дня вы пробудете здесь?
— Как прикажете, милая Таня.
— Тогда надо договориться с директором о ночлеге.
— Давайте лучше помолчим, мне так хорошо здесь.
И Таня притихла, поразившись тому, что Константин Дмитриевич выступил сейчас в обычной ее роли: это она всегда просила мужа «давай помолчим».
Солнце начинало припекать. Отыскивая едва протоптанные тропинки, они спустились на ту сторону горы. Там было много тени — какие-то кустики, остатки развалившегося сарая, длинный стог сена — они спрятались в его тень.
Пахло сеном, одуряюще пахло травами и близкой водой. На этой стороне озера открывалось настоящее море, и волны здесь настоящие были и, как положено волнам, разбивались о берег. Чайки нахально разгуливали по кромке воды, ни одного человека не было видно на берегу — пустынная, продуваемая всеми ветрами сторона, даже трудолюбивые монахи, хозяйничавшие на острове в течение многих веков, не сумели ее освоить. Константин Дмитриевич все молчал, нашел кустик горного чеснока, пожевал, походил босиком по берегу, вернулся, посидел рядом с Таней, опять поднялся, скрылся из глаз, принес букет красных маков. Наконец заметил ее нахмуренное лицо.