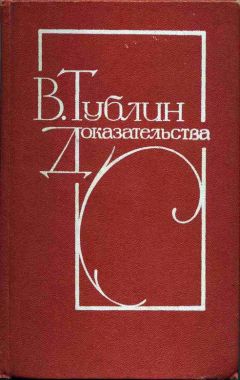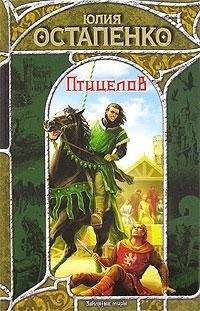— Я подписываю, — продолжал меж тем Лев Григорьевич как ни в чем не бывало, — я подписываю, как бы говоря этим да; в конце концов, почему бы мне не поступить так: всем известно, как тяжело пробиться вверх — везде, в том числе и в спорте. Итак, я говорю да, я вас поддерживаю, и вы уезжаете… Первенство мира… это прекрасно. Через месяц вы возвращаетесь. Очень хорошо. А что дальше? Наверняка через некоторое время вы снова придете ко мне с просьбой отпустить вас — ну, уж не знаю куда, в Сухуми, Ереван, Ужгород — неважно. Может такое случиться?
— Да, — сказал Сычев. — Такое может случиться.
— Вот видите, — сказал Лев Григорьевич. — Теперь вы поняли.
— Нет, — сказал Сычев. — Я не понял.
— Да ну? — удивился Лев Григорьевич. — Не может быть. Что ж тут не понять? Вы ведь будете продолжать эти свои занятия, ведь будете. И если они и впредь будут получаться у вас хорошо, вы будете все ездить и ездить… а если у вас не будет получаться так хорошо, как вам надо, то вы, как человек упорный, станете тренироваться все больше и больше, до тех пор, пока у вас снова не начнет получаться хорошо, и тогда все начнется с самого начала, как в сказке про белого бычка. Что же получим мы в итоге?
— Ничего, — сказал Сычев.
— То-то, — примирительно сказал Лев Григорьевич. — То-то и оно, что ничего. А теперь вы вдумайтесь-ка в это слово: ни-че-го. Ужасное слово-то, неприятное. Очень, очень неприятное. Валі ведь не двадцать лет и не двадцать пять. Вам ведь за тридцать… это же возраст. А достижения? Вы извините, что я говорю так, это вполне, может быть, меня и не касается, наверное даже… но мы ведь вместе учились… да и говорю я сейчас так, что вы не вправе на меня обижаться. Чего вы достигли? Я понимаю, вы можете про себя подумать: «А сам-то ты чего достиг, не бог весть чего»… Но это не обо мне разговор сейчас, я еще не достиг, чего хочу, еще нет… но вы… Я не замечаю в вас даже желания… Руководитель группы… Хорошо, хорошо. Но перспективы — где они? Вы согласны со мной?
Сычев молча пожал плечами.
— Согласны, согласны, — закивал Лев Григорьевич, — я вижу. Я давно уже хотел поговорить с вами, давно уже хотел дать вам совет. Надо делать выбор, Игорь Александрович. Пока не поздно. Надо выбирать. Не поздно, — поправил он сам себя, — это не совсем точно. Точнее будет сказать — еще не поздно. Но еще немного — и будет поздно уже по-настоящему. Выбирать, выбирать надо. В жизни всегда приходится выбирать, и выбирать круто: либо — либо. Кто не идет вперед, тот отстает, такова диалектика. Бросайте свой спорт — и за дело. Я готов вам помочь, и я помогу вам. В аспирантуру, в аспирантуру. Работы, нужных, отличных тем — сколько угодно. Поздновато, конечно, но лучше поздно… Через три-четыре года вы защитите диссертацию, а там… — Широко разведенные руки Льва Григорьевича означили необъятные горизонты, которые откроются перед кандидатом технических наук. — Нельзя, — убежденно закончил Лев Григорьевич, — нельзя более терять ни минуты. И, чтобы помочь вам сделать первый шаг, наиболее, как вам известно, трудный, я прошу вас взять обратно свое заявление; взять самому, продемонстрировав этим свою добрую волю. Я еще раз напоминаю вам о времени: сколько вы потеряли его с вашим увлечением! За то время, что вы стреляли из лука, люди работали, учились, двигали вперед науку, поднимались вверх, росли. Вы, конечно, помните Зарембу? На днях он защитил докторскую. А теперь подумайте немного, прежде чем ответить мне…
И он утер с лица пот большим красивым платком.
Итак, Сычеву нужно было ответить. Ответить не как-нибудь, а сильно. Но как-то вяло он себя чувствовал, вяло. «А Лева — он ведь ничего парень. Ничего», — пронеслось у него в голове. Разговор сбил его с толку. Если бы Лев Григорьевич говорил с ним иначе, Сычев, наверное, нашел бы в себе силы разозлиться и ответить резко и твердо. А сейчас…
Он прикрыл глаза и нырнул в зеленую чащу; прямой английский лук висел у него за плечами, чуть-чуть мешая при быстрой ходьбе. Он находился где-то неподалеку от Ноттингема, а шерифом тамошних мест был некий Заремба, который на третьем курсе весь год просидел с ним за одним столом, и Сычеву показалось, что он сейчас видит это лицо с вымученной улыбкой вечного отличника.
— Зануда был этот Заремба, — сказал вдруг Сычев, возвращаясь в нормальный мир. Это, конечно, был не ответ, что и говорить, только ведь и Сычев не представлял, что же он еще в следующую минуту скажет Льву Григорьевичу, а для начала и такой ответ годился. И поэтому он повторил: — Зануда и дурак.
И замолчал. Своеобразное дружелюбие, которое несомненно содержалось в словах Льва Григорьевича, выбило его из колеи. Он не испытывал теперь против него никакого раздражения. Похоже было, что Соединенные Штаты не увидят великого стрелка из лука — бедные Соединенные Штаты, бедная Пенсильвания, и бедный Сычев… Вместо вполне оправданного раздражения, которое было бы в этой ситуации понятно и естественно, Сычевым овладела элегическая грусть. Он должен был ответить Льву Григорьевичу, но теперь ответ должен был выходить за рамки частного, даже если этим частным были Соединенные Штаты.
И тут он услышал звучавшие в нем голоса. Во внешнем мире они были, понятно, не слышны, но внутри него они звучали совершенно отчетливо и громко, оспаривая друг друга и пытаясь заглушить один другого.
Первый голос был громок и трубен, он звучал героически, звал к активным действиям, вперед, на борьбу — и этот голос, так или иначе, приводил его к тому пути, на который направляюще-дружеской рукой подталкивал его и Лев Григорьевич. Звучал этот голос, что было несколько странно, гекзаметром:
«Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…»
Иными словами, голос этот говорил — вперед к высотам, вооружась здравым смыслом и терпением и будучи готовым к различным жизненным бурям и невзгодам.
Ну а другой голос? Он напевал нечто легкомысленное и маловразумительное: «Я птицелов, я птицелов, всегда я весел и здоров». Этот голос никаких катаклизмов не предвещал, ни к каким возможным потрясениям не готовил; он славил радость жизни, солнце и воздух; он был подобен пузырькам шампанского, поднимающимся к поверхности, чтобы там лопнуть и исчезнуть, не оставив следа. Вначале этот голос звучал слабо, его едва можно было различить, но, по мере того как Сычев, возвращаясь из своей последней прогулки, подходил все ближе к тому месту, где в ожидании ответа сидел Лев Григорьевич, этот голос стал слышен столь явственно, что почти перекрыл тот, трубоподобный, а затем заглушил его окончательно. И Сычев понял, что готов ответить.
— Прежде всего, — сказал он, глядя Льву Григорьевичу в красно-серый аккуратный узелок галстука, — прежде всего я, Лев Григорьевич, хочу попросить вас об одном. Что бы вы ни услышали сейчас от меня — не обижайтесь. Возможно, я не смогу с желаемой точностью выразить то, что хочу. Но я попробую сделать это. Я попробую ответить вам и сделаю это так, как смогу. А вы постарайтесь меня понять. И не обижайтесь. Даже если вам покажется, что повод для обиды существует. Я начну с того, что поставлю перед вами три вопроса. И по тому, как вы к ним отнесетесь, я буду знать, о чем говорить нам дальше.
Вопрос первый — думаете ли вы, Лев Григорьевич, что гений и злодейство — две вещи несовместные?
Вопрос второй — как вы относитесь к Гекубе?
И третий вопрос — что, по-вашему, стало бы с миром, если бы Одиссей не принял участия в Троянской войне?
Лицо Льва Григорьевича в самом начале этой речи было доброжелательно-вежливым. К концу же ее оно приобрело замкнуто-отчужденное выражение. Он молча смотрел на Сычева в продолжение минуты или двух. Затем лицо его исказилось, и он сказал разочарованно:
— Ах, бросьте вы…
И брезгливая улыбка, чуть раздвинувшая его пухлые губы, показала Сычеву, сколь болезненно уязвляет человека столь грубое проявление неблагодарного шутовства. Ибо только как шутовство и можно было расценить эти три вопроса. Но Сычев, похоже, был готов и к такой реакции. В тот же момент, едва уловив презрительную улыбку, он простер через канцелярский стол правую руку останавливающим жестом.
— Подождите, — сказал он смиренным тоном, — подождите. Я просил вас не поддаваться чувству. Я просил вас не обижаться. Вы, Лев Григорьевич, конечно, поняли, что разговор наш давно уже вышел за официальные рамки и превратился в нечто иное. Это уже и не разговор даже, а что-то вроде нашего совместного с вами эссе. Это общие наши рассуждения на тему жизни. В конце концов, я не оговаривал форму ответа, я только задал три вопроса. Если вы ничего не хотите добавить, можно считать, что вы мне ответили, — все равно.
Итак, вы сочли все заданные мною вопросы если не просто глупыми, то, во всяком случае, несерьезными и неуместными. При этом ход ваших рассуждений, как я его понимаю, примерно таков: «Я мог бы попросту написать на этой бумажке, на этом заявлении „нет, не согласен“ или что-нибудь в этом роде, найдя для своей позиции достаточно веские аргументы. Вместо этого я вызываю к себе человека, подавшего заявление. Я говорю с ним — откровенно и дружески. Я указываю ему пути, которыми он должен двигаться, чтобы не остаться ничтожеством, каковым он сейчас, несомненно, является, открываю перед ним перспективы будущего и даю при этом понять, что он может рассчитывать на полное мое понимание и поддержку, ибо только на этом пути ждет его то, ради чего он некогда, так же как и я, поступал в институт, затем учился в нем и вот уже почти десять лет работает, не достигнув, как мы видим, совершенно ничего. И вот, вместо того чтобы серьезным образом ответить, откликнуться на эту искреннюю заботу, на это доброжелательное внимание, он задает совершенно бессмысленные вопросы, цель которых, несомненно, одна — превратить эту беседу в шутовство… Приблизительно так подумали вы, Лев Григорьевич, бросая мне вместо ответа свое „ах, бросьте“. Но это все не так, далеко не так, поверьте. Вопросы, которые я задал вам, не случайны. И не вам одному задаю я их. Я задаю их всем и чаще других — самому себе. Сама жизнь задает их всем нам. Другое дело — кто сможет эти вопросы расслышать и обратить их к себе. Ибо вопросы эти, при всей их внешней несообразности, просты, и на них, как на трех китах, держится внутренний мир любого человека, независимо от того, знает он это сам или нет.