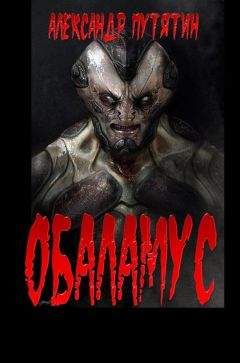— Знаю.
— Я вот тут изложил все, прочитай, запомни на всякий случай. Врагу эта бумага не должна попасть ни в коем случае.
— Да что уж я… — обиделся лейтенант.
— Извини… — смутился Тарасов.
Лейтенант пристально, с знакомою комбату грустью, поглядел на капитана, потом на него и, козырнув, спросил:
— Разрешите идти?
— Ну что же, до свиданья, — проговорил Тарасов, протягивая ему руку.
Такие вот «до свиданья» сколько раз оборачивались прощаньем навсегда, и они понимали это слово, как прощанье на всякий случай… Молча пожали друг другу руки, и танкисты вышли.
Тарасов подумал и почувствовал, как быстро льнет сердце к тем, кто, может быть, и был с тобою в бою минуту всего, но эта минута решила твою участь.
В подвал вошла Полечка — военфельдшер батальона. Полечка была русоволосая, молоденькая, румяная девушка, с такими жизнерадостными, озорными и в то же время наивно-доверчивыми голубыми глазами, что, глядя на нее, невольно хотелось улыбнуться. На бесчисленных ухажеров она поглядывала то усмешливо, то сожалеюще, то осуждающе, и все поняли, что в вопросах любви она человек серьезный. Она была единственным в батальоне человеком из того милого домашнего мира, по которому тосковали все. Одна среди мужчин. Ее баловали, и она пользовалась такими правами и привилегиями, не предусмотренными никакими уставами, положениями и званиями, какими не пользовался в батальоне никто.
Сейчас Полечка осунулась, лицо было измято усталостью и отчаянием.
— Я не могу больше, что хотите делайте… не могу… — глуша рыдания, заговорила она. — Они умирают, а у меня бинтов нет, ваты нет, иоду и того нет, ничего нет… Я не могу больше…
— Слушайте, военфельдшер, — недовольно заговорил Тарасов, — для чего вы здесь? Для того, чтобы лечить раненых, или для того, чтобы устраивать истерики? Ничего нет? Это с вас надо спросить, почему нет.
— Все кончилось… Их ведь вон сколько… Я не могу больше, не могу… — прижав к груди руки, простонала она и бросилась вон.
Нервы Тарасова были взвинчены до предела, и он, глядя ей вслед, подумал только: «Лекарь мне называется! Поди-ка, раненым с ней еще тошней. Надо сходить к ним непременно, теперь время есть».
Прямо в дверях Полечка столкнулась с комиссаром.
— Ну что ты, что с тобой? — и удивленно, и обеспокоенно, и ласково проговорил комиссар, загородив ей дорогу. — Ну успокойся, успокойся, ну что ты?..
— Да-а-а, а чего он… — обернув к Тарасову точно вымаканное в слезах лицо, смогла наконец выговорить Полечка. И эти слова, произнесенные прямо-таки с девчоночьим горючим горем, и устыдили, и тронули Тарасова.
— Не могу терпеть нытья, — проговорил Тарасов, объясняя комиссару, что случилось.
— Но она девчонка еще, — возразил комиссар. Тарасов, от неловкости перед комиссаром, отвернулся туда, где висели шуба и шапка. Одеваясь, проговорил:
— Младший лейтенант…
Полечка вздрогнула и, оторвав от шинели комиссара заплаканное лицо, выпрямилась перед ним.
— Танкисты идут к нашим, передайте им, чтобы медикаментов обязательно привезли. Напомните им еще об этом. Вы знаете, что особенно нужно, объясните.
Она с минуту, наверное, смотрела на него все в том же состоянии женской обиды и горя, и только тогда, видно, поняв, что ей говорят и что значит сказанное, обрадованно бросилась вон, чисто по-женски не думая, что у командира нужно спросить разрешения.
— Схожу погляжу, как люди.
— Сходи.
Окна в тех домах, что не сгорели и не были сильно разбиты, заколотили досками, затыкали тряпьем. В домах поубрали мусор и топили печи. Правда, было дымновато: боясь искрами из труб выдать себя, дали выход дыму на чердаки. Отдых налаживался, и кое-где в печки ставились котелки с водой «для сугреву», как говорили бойцы. Но это была забота дневальных — все остальные спали, приткнувшись где попало и как попало на этом холодном полу.
Тарасов глядел на своих скрючившихся, в порванной одежде, с поцарапанными лицами, многих в бинтах, грязных бойцов и думал: «Золотые вы мои ребята…». Он оглядывал каждого и, заметив, что кто-то спит неловко, то поправлял руку, то, приподняв осторожно голову, подсовывал что-нибудь под нее, а то поворачивал все тело, чтобы было удобней лежать. Дневальные вскакивали, когда он входил, и садились снова, потому что он махал им рукой: «Сиди, сиди!» Смущенные тем, что были невнимательны к товарищам, вставали опять, подходили и виновато говорили:
— Разрешите, я сам сделаю…
— Ничего, ничего. Тоже ведь досталось, отдыхай.
Потом он пошел к раненым.
Просторный подвал двухэтажного деревянного дома, занятый под лазарет, был заполнен ранеными. Здесь не было, как говорят, «ходячих». Все, кто мог держаться на ногах, не уходили из своих рот. Рядами лежали беспомощные люди — на шинелях, на досках, на фанере — на всем, чем удалось прикрыть земляной пол.
По проходам, меж этих сплошных рядов неподвижных людей, вяло двигались измученные санитары, чтобы подать воду, положить удобнее кого-нибудь или бросить дров в железные, красные от огня бочки, оборудованные вместо печек. Скупо светили две лампы под бревенчатым накатом подвала.
Кто-то бормотал в бреду: «Мама, мамочка…», кто-то шептал: «Я ведь не вру, ей-богу люблю тебя… ей-богу…», кто-то кричал с тяжелою бредовою настойчивостью: «Гляди! Гляди… твою!.. Справа обходят! Гляди!» Кто-то жутко, именно своей веселостью в этой обстановке, смеялся в беспамятстве.
Никто не обратил внимания на комбата. Измученные своею болью, люди казались безразличными ко всему. Даже санитары, занятые своим делом, не поглядели, кто вошел.
Одна Полечка, бинтовавшая лентами, настриженными из белья, окончив перевязку, взглянула устало, думая, наверное, что еще кого-то принесли и опять надо бинтовать. Но, увидев комбата, поднялась и сказала:
— Ну вот, поглядите, как у нас…
Она бодрилась и полагала, что этим бодрит других. Фактически же все было не так, как она думала. И комбат тотчас понял это. Люди крепились не только потому, что она своим словом или помощью делала это, а потому, что она находилась тут, с ними. Просто оттого, что она была такой вот беспомощной, юной и терпеливой. Молодым бойцам было не к лицу показывать перед нею свою боль стонами и капризами, им хотелось, чтобы она видела в них настоящих мужчин. Пожилые же, видя, как ей тяжело, жалели ее просто по-отцовски и ободряли, стараясь показать, что они довольны всем, что она делает, и что им хорошо и тревожиться нечего. Тарасов понял все это.
Полечка пошла к одному из бойцов и по пути остановилась укрыть еще одного, потом другого. Первый пожилой боец улыбнулся, и, подавляя, видать, тяжкую боль, проговорил ласково:
— Спасибо, доченька…
Второй же, молодой, запротестовал:
— Не надо, я сам…
По доброму теплому взгляду комбата Полечка уже чувствовала, что он вовсе не такой сухарь и злюка, как она считала прежде, и в ней шевельнулось к нему то же чувство женской озабоченной ласковости, которое было у нее к раненым. Она знала теперь, что ему тяжело, может быть, больше.
— Да вы не беспокойтесь… — виновато и как бы извиняясь проговорила она. — Теперь и перевязывать есть чем, а как танкисты вернутся, все будет хорошо.
Он оценил это ее душевное движение и взглядом поблагодарил ее.
В подвале между тем стало тише. Раненые пришикнули друг на друга, приглохли стоны, и Тарасов видел уже на себе десятки глаз. Обросшие щетиной лица, суровые, решительные, обращенные к нему с молчаливым вопросом: «Ну, а что же будет с нами дальше?» — требовали ответа. Но на этот вопрос он и сам себе ответить не мог и молчал. Один из раненых — немолодой и, по измученному лицу видно было, страдавший со вчерашнего дня, с перерывами, с трудом, почти шепотом заговорил:
— Я… мне… лучше… коли што… Не оставляй этим супостатам… Сожгите лучше…
Тарасов сам предпочел бы любую смерть плену, но то, что думали — он может забыть их и бросить, «коли што», как сказал раненый, было для него невыносимым оскорблением, и, не обращая внимания на то, что говорил это измученный болью человек, которому многое можно и простить, он гневно крикнул:
— Ты что, подлей всех меня считаешь, если думаешь, что я вас брошу, а?
Он крикнул и осекся, подумав: «Да что это со мной, на кого кричу? До чего же я издергался…».
Именно этот гневный крик его и успокоил людей, показав, что командир их сделает все возможное и невозможное, чтобы спасти всех.
Другой раненый, обросший черной щетиной, выглядевший особенно мрачно, грубо-басовитым голосом сказал:
— Винтовки прикажь выдать, комбат, если что, так и сами за себя постоять сумеем. Мы тут поразмыслили. Так что прикажь.
Тарасов хотел успокоить их, но раненый проговорил:
— Не надо, комбат. Непошто. Непошто говорить.
От волнения комбат почувствовал на глазах слезы и отвернулся от раненых к Полечке. Она тоже разволновалась, и поэтому его состояние сделалось понятным и чем-то близким ей.