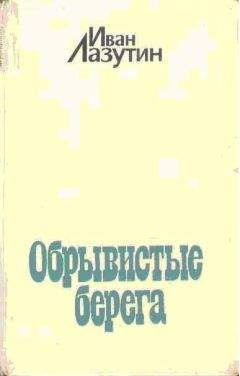— Что с тобой?!. Можно подумать, что ты по спортлото выиграла "Волгу".
— Я выиграла!.. Выиграла больше, чем "Волгу"…
— Что — выдали? — кисло улыбаясь, спросил Яновский.
— Выдали!.. На, посмотри! — Вероника Павловна бережно вытащила из сумочки свидетельство о рождении и, развернув его, положила перед мужем.
— Даже не знаю, как мне отблагодарить Калерию Александровну.
— Очень просто!.. — как само собой разумеющееся, спокойно сказал Яновский.
— Ну как?.. Подскажи!.. У тебя богатая фантазия и хороший вкус!
— Думаю, что в милиции, как и в магазинах, есть "Книга жалоб и предложений". Вот ты попроси ее у них и напиши в ной свою благодарность. Уверен, что в делах ее службы и в ее карьере это не помешает. Доброе слово всегда приятно не только человеку, но и кошке.
— Ах, Альберт, Альберт!.. — Вероника Павловна, беспомощно опустив руки, стояла перед мужем и с укоризной и обидой смотрела на него. — Очень жаль, что жизнь для тебя замкнулась на одной диссертации.
Сказав эти слова, Вероника Павловна потом сто раз пожалела. Она даже не предполагала, что они вызовут в душе мужа бурю негодования.
— Замкнулся на диссертации?!. И у тебя еще поворачивается язык! Неужели и мне прикажешь плясать от радости над твоей липой, которую ты достала с таким трудом! За три года, пока мы с тобой живем, я, честно тебе скажу, так устал выслушивать твои монологи о душевных муках! Ну вот, теперь ты наконец отмучилась, поздравляю! Так, ради бога, не мешай мне закончить работу. Я уже и так весь на нервах!..
Вероника Павловна, словно посторонняя в своей квартире, села на стул рядом с письменным столом, положила руки на колени и долго покорно смотрела в глаза Яновскому.
— Скажи, Альберт, прямо и открыто — я надоела тебе?
— Солнышко!.. — взмолился Яновский. — Умоляю тебя, давай о другом?! О любви не теоретизируют. Ото не диссертация! Любовь это… это… — что-то силясь вспомнить, он кисло поморщился, затряс головой и щелкнул большим и средним пальцами. — А, вспомнил!.. О любви и о жизни хорошо сказал Сергей Есенин:
Наша жизнь — простыня да кровать,
Наша жизнь — поцелуй — и в омут!..
— Как ты все опошляешь!.. Не это хотел сказать Есенин этими строками.
— Ах, даже так?!. Опошляю?!. Ты начинаешь меня учить, как надо понимать Есенина?! Ты, детский врач, глубже меня, филолога, чувствуешь Есенина?! — Яновский, взвинчивая себя с каждым словом, раздражался все сильнее и сильнее. — Ну, знаешь, милая, эдак мы ни до чего не договоримся. А если и договоримся, то последней фразой, которая подытожит наш с тобой союз, будет пресловутая банальная формула.
— Что это за формула? — убито проговорила Вероника Павловна.
— Разошлись как в море корабли! И этот конец готовишь прежде всего ты. Видишь, тебя раздражает, что я замкнулся на одной диссертации. А на чем мне еще сейчас надо замыкаться?
Вероника Павловна расслабленно поднялась со стула и, болезненно переведя дух, тихо и виновато сказала:
— Прости меня… Я была неправа. Я не хотела тебя обидеть. Тем более — волновать в такое ответственное для тебя время. — Видя, что теперь хоть становись на колени, гнев мужа сразу не уляжется, она понуро вышла из комнаты и неслышно закрыла за собой дверь. Упав на кровать в спальне, не сдерживая рыданий. Вероника Павловна плакала от радости, что свалила тяжеленный камень, который много лет (и год от года все тяжелее) давил на ее душу, и от обиды, что муж с ней так несправедлив и допускает, что какие-то мелкие семейные недоразумения для него могут быть причиной их расставания.
День у Семена Даниловича сегодня особенный. Можно сказать, праздничный. К нему обещал приехать друг-однополчанин, с кем в одной стрелковой роте они дошли до Берлина. А поэтому он еще вчера вечером зубным порошком надраил свои медали так, что на солнце они горели. Выше других, как бы особо выделяясь, поблескивали три медали: "За отвагу", "За боевые заслуги" и "За взятие Берлина". Во втором ряду, ниже, были прикреплены медали юбилейные.
Жители двора, знавшие Семена Даниловича более трех десятков лет, уже привыкли к тому, что свои боевые награды он всегда носил на военной гимнастерке. Когда маляр из домоуправления спросил его однажды, почему он свои награды не носит, как все, на пиджаке, ведь война-то давно кончилась, Семен Данилович крутанул свои седые усы, взвихрил их и, лихо подбоченясь, ответил:
— Ты слышал когда-нибудь пословицу "Как корове седло"?
— Ну, слышал, а что? При чем здесь корова и седло? — растерянно моргал седой маляр, у которого на пиджаке цветасто пестрели две планки военных наград. — Вся Москва колодки и ордена носит на пиджаках, а ты, как в войну, прицепил их на гимнастерке. Все чудишь, выхваляешься.
— Ну и пускай себе носят на здоровье. А я, как привинтил их в сорок четвертом и в сорок пятом на гимнастерку, — Семен Данилович бережно коснулся шершавыми пальцами трех верхних медалей, — так с тех пор и не снимаю. И своим наказал: когда будут класть в гроб, то пусть не наряжают меня в новый костюм и не вешают на шею галстука. Пусть наденут на меня мою военную гимнастерку. А медали накажу хорошенько надраить, чтоб в гробу я лежал, как Александр Суворов. — Оживившись, Семен Данилович огляделся по сторонам, словно собирался сообщить дружку-маляру тайную новость. — А ты, Петрович, знаешь, кто и почему придумал ордена да медали нести за гробом на бархатных подушечках?
— Кто? — простодушно спросил маляр, хотя по ухмылке дворника ожидал, что тот сейчас сморозит что-нибудь заковыристое, с очередной подначкой или прибауткой-язвинкой.
— Наследнички. Чтобы погордиться покойным да к пенсии прибавку выхлопотать.
Любил шутку Семен Данилович. Вот и сегодня, возвращаясь утром из овощного магазина, он еще издали заметил, как муж Вероники Павловны, перед тем как выйти из машины, поцеловал сидящую за рулем румяную блондинку, а поэтому решил не пропустить случая и при встрече с Яновским — а тот всегда с ним раскланивался, даже прикладывал к груди ладонь — подковырнуть и тем самым намекнуть, что он знает о нем кое-что такое, что мужья скрывают от своих жен.
И Данилыч дождался этого случая.
Отдыхая в прохладном скверике чисто убранного двора, он сидел на скамейке и любовался детьми, играющими в песочнице. Среди детей была и его четырехлетняя внучка от старшей дочери. День был воскресный, никто никуда не торопился, машин во дворе почти не было, все разъехались кто куда: кто на свои дачи, кто в гости к родным или друзьям. Любил Семен Данилович этот предвечерний час воскресенья, когда дневная жара уже спала, а вечерний холодок еще не остудил разогретую за день листву.
Яновского Семен Данилович заметил еще издали, когда тот вышел из-под арки и, о чем-то хмуро задумавшись, шел к своему подъезду. "Одесский кобель!.. Он тебе, дорогая Вероника Павловна, еще покажет и рожки, и копытца. Вот не докумекаю, как бы сделать так, чтобы ты знала, что он за фрукт. Сам я напрямик на это не пойду. Бог оградил от доносов. Да и дело-то грязное. Не буду расстраивать тебя. Шила в мешке не утаишь, сама увидишь, когда час придет…" — так думал Семен Данилович, провожая взглядом Яновского. А когда тот вдруг неожиданно свернул к скверику и пошел по направлению к скамье, на которой сидел дворник, у него мелькнула мысль: "Скалится, каналья… Чего-то нужно от меня. Наверное, видел меня утром, когда я шел из овощного. Страхонуться хочет".
И Данилыч не ошибся.
Подойдя к скамье, Яновский слегка поклонился и, по обычаю своему, коснулся ладонью груди.
— Приветствую вас, Семен Данилович! Можно подумать, что вы только что с Парада Победы!
— Здорово, коль не шутишь. — Семен Данилович недоверчиво посмотрел на Яновского и хотел было что-то еще сказать, но промолчал. Почувствовав это, Яновский присел рядом с дворником, достал сигареты.
— Закуривайте. — Яновский протянул дворнику сигареты. — Болгарские.
— Свои курю. Русские. — По лицу Семена Даниловича было видно, что разговаривать с Яновским ему не хотелось, да и не о чем.
Почувствовав недоброжелательный настрой дворника, Яновский, перед тем как встать, решил разрядить напряженную минуту.
— Вот посмотрю я на вас, Семен Данилович, и на душу мою тихая радость, словно легкое облачко, опускается.
— И чем же это я завлек тебя? Уж не тем ли, что взаймы не прошу?
— Правильно вы живете, Семен Данилович. Приличная пенсия, работа по душе, дети у вас все в люди вышли, внуки красивые, здоровенькие, да и сами вы всегда чисто выбриты, будто только из салона-парикмахерской. Позавидуешь. Был бы журналистом — очерк о вас написал бы.
— Да и ты, друг ситный, как погляжу, устроился неплохо. Жена у тебя хоть и постарше на целых десять годков, зато ухаживает за тобой, как за малым дитем. И опять же теплый ветерок дует в твой парус. Не жизнь, а малина!..