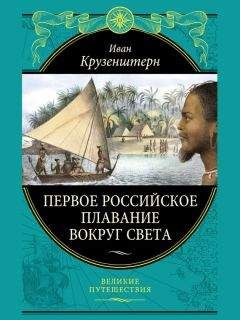И он жил так же, как все, не подозревая, что это время, первый год студенчества, окажется потом очень важным для него и что сейчас он не понимает этого лишь потому, что самая острота впечатлений не дает возможности оценить их значение. Но были случаи, когда это подсознательное движение мысли и чувства вдруг становилось ясным для него.
Таков был случай с приятелем его, Лукиным.
В первом и втором семестрах он встречался с ним очень часто — Лукин был в его бригаде. Институт давался ему с трудом, но он, кажется, нисколько не тяготился этим. С тою соразмерностью в силах, по которой легко узнать человека физического труда, он последовательно преодолевал эти трудности и учился не хуже других. Особенно интересовался он анатомией и готов был с утра до вечера возиться в анатомическом театре. Хитрое устройство человеческого тела — вот что его поражало! И вдруг он пропал. По дружбе Карташихин дважды поставил против его фамилии отметку о посещении. Но Лукин не явился и на третий и на четвертый день. И никто не знал, почему он перестал ходить, даже студенты, которые жили с ним в одном общежитии.
Наконец Хомутов выяснил, в чем дело: Лукин запил.
Карташихин освободился поздно в тот день, когда узнал об этом, и, выходя из института, решил, что зайдет к Лукину завтра утром. Но, проходя мимо общежития, по улице Льва Толстого, он на всякий случай посмотрел на окна четвертого этажа: еще не спали.
Он постоял у подъезда, потом вдруг решился — и побежал по лестнице…
Все комнаты были открыты в коридоре четвертого этажа, из всех дверей выходили студенты и ругались. Баулин, медик пятого курса, маленький и полуголый, стоял у единственной запертой двери и с унылым упрямством бил в нее кулаком. Вокруг него разговаривали, ругались, смеялись; он все бил и бил.
У знакомой студентки Карташихин узнал, что случилось: Лукин бушевал. Явившись после пяти дней отсутствия в общежитие, он сутки пролежал, не говоря ни слова. Час назад встал, выгнал из комнаты соседей, сорвал провода и теперь один в темноте пляшет.
— Что?!
— Пляшет, — серьезно повторила студентка, — вона! И в ладоши бьет!
В самом деле — монотонный напев доносился из комнаты между страшными ударами Баулина.
— Сергей, да будет тебе, сейчас комендант придет, откроем и свяжем, — крикнули из толпы.
— Пустите-ка, товарищи, я с ним поговорю, он сам откроет, — сказал Карташихин.
Его пропустили, Баулин ударил в последний раз и нехотя отошел.
— Петр!
Лукин пел, и слышно было, как ходит — старательно, неторопливо.
— Петр, открой, это Карташихин.
Лукин не отвечал, все пел.
Заспанный комендант принес ключ, и Карташихин вошел в комнату. Койка была брошена поперек двери, стол разбит, книги и посуда на полу, и везде газеты, газеты. В свете, падавшем из коридора, ходил, изогнувшись, Лукин. Голый, только в майке и валенках, он топтался по-медвежьи и однообразно пел. Прямые волосы свисали на лоб, огромные худые ключицы торчали. Он смотрел вниз, на пол, и даже глаз не поднял, когда распахнулась дверь. Он был страшен.
— Товарищи, пять минут, — сказал, обернувшись, Карташихин и захлопнул дверь.
Через пять минут он вышел из комнаты вместе с Лукиным. Ругательства стихли, когда они появились. Только Баулин подскочил было к ним и заговорил быстро, и Лукин, приостановившись, уже поднял на него тусклые, бешеные глаза… Но Баулина оттащили, оттерли.
Было холодно, ветер и мелкий снег, и Карташихин, когда они спустились на улицу, хотел застегнуть на Лукине полушубок. Он не дал.
— Я сам.
И он сам, десять раз попадая мимо петли, застегнул полушубок.
Они уже подходили к дому, когда он заговорил, сперва слабо и хрипло, сорванным голосом, потом немного тверже.
— Ты мне объясни одну вещь, — сказал он. — Вот мы учимся в высшем учебном заведении, в Медицинском институте, и будем врачами. Верно?
— Верно.
— А крестьянство?
— Что крестьянство? — нащупывая в кармане французский ключ, спросил Карташихин; они поднимались по лестнице.
— Одни — врачами, а другие — рвачами, — громко сказал Лукин. — И за что пропадать — неизвестно.
— Ш-ш, спят!
Они вошли в прихожую, и Лукин послушно замолчал, Карташихин увел его к себе, заставил лечь. Он лег, не раздеваясь, и долго молчал, уставясь в потолок и не моргая.
— Убил его? — вдруг спокойно спросил он.
— Кого?
— Корниенко.
— Никого не убил, — отвечал Карташихин, с трудом вспоминая, что Корниенко — сосед Лукина и что он мельком видел его в общежитии.
Лукин помолчал.
— Жаль.
— А за что?
— Понимаешь, я лежу, а он чай заваривает. Смотрю — чаинки считает. Ведь каждый день считал — и ничего, а тут у меня в глазах потемнело. Я хотел его убить, они не дали.
— Ну ладно, спи, — ничего не поняв, сказал Карташихин.
— Не хочу. Колбасы купит сто граммов и ест две недели. Крысиный хвостик останется, он завернет в бумагу — и на завтра! Сыр режет листочками, как бумагу. И все говорит, — Лукин скрипнул зубами, — «маленько, да сладенько».
— Ну и черт с ним, просто дурак, — чувствуя, что нужно быть тверже и умнее и что ничего не получается, сказал Карташихин.
— Нет, не дурак. Они видят, куда все гнется, а мы не видим.
— Да ты про кого говоришь?
— Все равно. Все, все. Они все одного хотят: маленько, да сладенько. А я не хочу, — громко сказал Лукин и сел на постели. — Я не согласен.
— Да ты тише, спят за стеной.
Но за стеной уже давно не спали. Матвей Ионыч возился, пыхтел, стучал посудой. Несколько минут спустя он позвал Карташихина и сунул ему рюмку с какой-то жидкостью молочного цвета. Карташихин понюхал.
— Пенэкслеллер? — спросил он.
— Пусть выпьет, — серьезно сказал Матвей Ионыч. — И чтобы не спать. Полчаса, час. Потом спать.
И, застегнув бушлат, причесавшись, чтобы не испугать Лукина, он явился в комнату и стал ухаживать за ним. Он заставил его снять рубаху, вытер лицо и грудь мокрым полотенцем и уложил его, покрыв одеялом и подложив под голову низенькую подушку.
Он отправил Карташихина спать, остался с Лукиным и говорил с ним до тех пор, пока первый утренний зимний свет не проник в комнату и не стала видна жесткая снежная крупа, до сих пор невидимо стучавшая в стекла. Говорил, впрочем, не он. Говорил Лукин, медленно и бессвязно, но со всею энергией полной откровенности, которая в нем была особенно трогательна и необыкновенна.
Когда наутро, проспав половину лекций, Карташихин вскочил и побежал будить Лукина, в комнате уже никого не было. Еще мокрое полотенце висело на двух стульях, поставленных спинками друг к другу, кровать прибрана, форточка приоткрыта. На столе Карташихин нашел записку: «Под чернильницей лежали три рубля. Я взял. Не сердишься? Получу стипендию — отдам».
— Расстроился, — сказал Матвей Ионыч, когда, отправившись к нему с этой запиской, Карташихин спросил, о чем они говорили ночью.
— Из деревни — одно, тут — другое. Надо помочь, следить. Помочь, и пройдет скоро.
В этот день началась зачетная сессия за третий семестр, и некогда было подумать о Лукине. Но Карташихин дважды ловил себя на том, что ничего не видит и не слышит вокруг. Все вспоминалось ему, как Лукин ходил по комнате, свесив руки, уставясь в пол, и пел. Что это за песню он пел? Унылая и, кажется, не по-русски. Должно быть, чувашская, вот что! Ему было жаль Лукина, но именно поэтому он старался думать о нем хладнокровно. Одно он понял — и самое важное, как ему показалось. Он понял, что вся эта жизнь в институте, которая дается ему сравнительно легко, трудна для Лукина; и не только потому, что он живет в плохой комнате, плохо ест и работает через силу, а потому, что он сомневается в необходимости этих лишений: вокруг были люди, вроде Корниенко, которые жили по маленькому счету, а Лукин хотел жить по большому. Большой счет — это было такое отношение к собственным и чужим пристрастиям и недостаткам, ко всему, что унаследовано, утеряно и приобретено с первых дней сознательной жизни, которое создано революцией, — так понимал это слово Карташихин. И он впервые заподозрил себя: было ли у него что предъявить по этому большому счету?
2Он решил, что вечером непременно зайдет к Лукину, и не один, а с кем-нибудь из товарищей, может быть с Хомутовым, но одно обстоятельство помешало. Заболел Таканаев…
Таканаев был дворник в доме 26/28. Его все знали, и мальчишки с окрестных дворов любили его и боялись.
Он был высокого роста и наружности зверской: низкий лоб, дикий нос с большими, открытыми ноздрями, плотные черные усы. Очень странно было, что этот человек, напоминавший древних татар-завоевателей, был всего-навсего дворник. И при такой внешности и необыкновенной физической силе он был добродушен необычайно. У него было много детей всех возрастов, начиная с двухлетнего кривоногого мальчика, наружностью очень напоминавшего отца, и кончая взрослой дочкой, которая училась петь и жила отдельно, в капелле. Она приходила иногда, чистенькая, широколицая, с двумя толстыми косами и голубоглазая, что, кажется, редко встречается среди татар. Ее звали Гуля, а самого Таканаева — Омер, что никому в доме не мешало называть его просто Иваном.