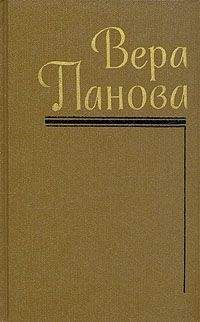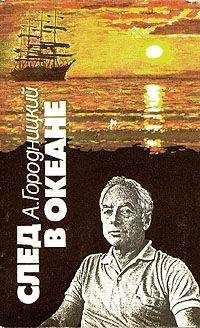— Еще одну вещь хочу тебе сообщить очень важную. Не знаю, ты помнишь ли нашу беседу насчет твоих знакомых девчат, не помнишь? Я высказывался, как меня обделила судьба, что за всю мою жизнь я не знал, что оно такое дорогая и чистая женская дружба! Вспомнил? Ну так вот: она ко мне заходила.
— Кто?
— Зойка маленькая. Лично ко мне. Сижу, понимаешь, вечером один, Гришка домой ушел (Гришка был новый помощник, взятый на место Севастьянова). Отворяется дверь — она. Здравствуйте, говорит, мимо шла и зашла, давно вас не видала, как поживаете? И здороваемся за руку. Мне неудобно выкладывать мои мужские новости, что, мол, Лиза в родильном доме, рожает и так далее, — я спрашиваю уклончиво, как вы-то живете-можете? У меня, она отвечает, большое несчастье: умер мой папа. Смотрю — она худенькая, бледненькая, я поначалу так очумел, что не заметил. И всегда она была не шумная, а сейчас вовсе тихая стала, и шагов не слыхать, будто по воздуху ходит. Говорю — боже мой; я и не знал; когда же, спрашиваю, от какой причины? И ты не поверишь: сели мы с ней на подоконнике рядышком! Рассказала, как отец болел, как она у него в больнице бывала каждый день, а последние дни они с матерью от него не отступали, разрешили им, — и как отец с ней разговаривал и беспокоился, чтоб она не горевала и на могилу к нему чтоб поменьше ходила, — нечего тебе, сказал, на кладбище делать, делай свое дело молодое! Видать, любил ее. Сказала, что в железнодорожной школе будет работать с осени. Все, в общем, свои новости изложила мне как другу. Как другу! — повторил Кушля, блестя глазами.
«Это я, — думал Севастьянов, — должен бы сидеть с ней рядом, и мне она должна была все это рассказать. А я пришел бесчувственный, как деревянный чурбан, боясь, как бы не опечалиться ее печалью, она мою боязнь моментально увидела и выставила меня в два счета, — правильно сделала…»
— И понимаешь, — продолжал Кушля, — так мы с ней дружески рядом сидели, так она хорошо на свои колени облокотилась и голову ко мне повернула, что я сам не заметил, с чего начал, но слышу — уже делюсь с ней напропалую: и про Ксаню, понимаешь, и про Лизу, и что Лиза рожает в данный момент, и всей своей автобиографии коснулся слегка, чтобы пояснить ей мою драму. Спросил: что вы мне посоветуете. Она поддержала, что моя мысль правильная: ребенок — главное. Взрослый, говорит, может перенесть разочарование и крушение… что-то в этом духе сказала… А ребенку, говорит, нужен отец, чтоб воспитывать и защищать. Именно! Именно защищать, понимаешь, я обязан Андрюшку, я так же само понимаю! Защищать его от империалистов и ихних пособников, от всей мировой гидры! И воспитывать как борца за всемирную революцию!.. Великолепно, дорогой товарищ, побеседовали, культурно и душевно! Говорю тебе: уж если повезет, то везет во всем!
Неиссякаемо юно было это сердце. Неудачи не ложились на него грубыми рубцами, оно оставалось открытым для высоких и нежных впечатлений, и ярко-голубые глаза лучились.
— Ну, музыка недолго играла: пришла Ксаня. Села напротив нас, семечки лускает и смотрит — представляешь, как смотрит!.. Зойка встала и говорит: я попрощаться, собственно, зашла, мы с мамой завтра уезжаем на лето к знакомым в Ейск. Оглядела помещение — а у вас, говорит, ничего не изменилось, те же столы и стулья, даже паутина на потолке, пошутила, та же самая… Попрощалась и ушла, как сон!
Они приближались к цели своего похода. Севастьянов завидел стоящую у ворот толстуху Лизу в розовой блузке, с белым свертком в руках. Притопывая каблучком, проворно двигая пышными плечами, она качала сверток и улыбалась навстречу Кушле.
— А мы папочку встречаем, встречаем! — тонким голосом не то пропела, не то прокричала она, когда Кушля и Севастьянов подошли поближе. — А мы за папочкой соскучились, соскучились!
Кушля сделал строгое лицо и осторожно раздвинул кружевца на свертке. Среди кружевной белизны показалось крохотное темно-красное спящее личико.
— Спит Андрей Андреич, — сказал Кушля, сверху важно глядя на ребенка. — Двенадцать суток исполнилось Андрею Андреичу.
— Двенадцать суток с половиной! — живо уточнила Лиза и, качая, поднесла ребенка Севастьянову. — Похожи мы на папочку?
— Страшно похож! — ответил Севастьянов. — Изумительно!
Кушля не принял шутки.
— То-то, брат! — сказал он с достоинством.
В присутствии Лизы к нему вернулась его степенность. Словно не он, размахивая руками, ребячески восторженно изливал сейчас Севастьянову свои планы и новости. При Лизе и Ксане он всегда держался внушительно, слегка загадочно.
— Дай-ка его сюда, — сказал он и, взяв сына из Лизиных рук, понес в дом. Лиза мелким бегом побежала за ним на каблучках.
Она жила с двумя сестрами и Андрюшкой в маленькой комнате, заставленной вещами. Первым долгом бросался в глаза высокий черный манекен; он стоял против двери, воинственно выкатив грудь. Была тут ножная швейная машина, за нею сидела и шила одна из Лизиных сестер. Была гладильная доска; другая сестра на ней что-то гладила паровым утюгом. Две кровати с множеством подушек в кружевных и вышитых наволочках, комод с множеством флаконов, коробочек и фотографических карточек и стол, на одной половине которого было накрыто к обеду, а на другой лежали куски раскроенной ткани. На стене висело какое-то рукоделье, изображавшее Пьеро в черной бархатной шапочке и тюлевом воротничке, а рядом — детская цинковая ванночка. Пол засыпан был обрезками материи.
Как Севастьянов ни отказывался, его заставили пообедать, пристали: «Уж покушайте с Андреем Никитичем!» Прежде чем усадить их, Лиза сняла со спинок стульев развешанные пеленки и смахнула с сидений лоскутки Обедали Севастьянов и Кушля вдвоем. Одна из сестер не переставая шила, то на машине, то иглой, и иногда, подняв голову, взглядывала на обедающих мужчин, и по лицу ее разливалось удовольствие. Другая сестра подавала и принимала со стола. А Лиза то пеленала ребенка, то нянчила его, крутясь на свободном от мебели и людей местечке между Кушлей и манекеном, пристукивая каблучком и приговаривая:
— А теперь наш папочка селедочки скушает! Скушай селедочки, папочка! А теперь нашему папочке пивка принесут! Выпей, папочка, пивка!
— А вы пиво остудили? — спросила, поднимая голову, та, что шила. Андрей Никитич не любит, когда теплое.
— Остудили, остудили! — в два голоса ответили Лиза и другая сестра. Конечно, как можно теплое!
Обед был сытный, обильный. К пиву были поданы раки. Кушля сидел за столом как глава семейства, окруженный почтением и заботой. Видно было, что так его здесь приучили. Он принимал это как должное, но поглядывал на Севастьянова, спрашивая без слов: «Замечаешь, как меня ценят? Замечаешь, какая у меня уважительная и дружная семья?» И, вспомнив его рассказы о Тихорецкой и Великокняжеской, Севастьянов порадовался, что ему хорошо.
После обеда Севастьянова пригласили подойти к кровати и полюбоваться Андрюшкой, которого специально развернули для обозрения. Вид невыносимо беспомощного маленького тельца с дрожащими ручками и ножками скорее ужаснул Севастьянова, чем умилил; но чтобы не расстраивать родителей, он почмокал над дрожащим тельцем губами; пощелкал пальцами и подтвердил, что ребенок первый сорт, что глазки у него Кушлины, ноготки Кушлины и носик тоже Кушлин. Ему казалось, что он врет без стыда и совести. Но через шесть лет, приехав из Москвы в командировку, он видел маленького Андрюшу вылитый был Кушля, только шестилетний, беленький и свеженький, в трикотажном костюмчике; со свеженького детского лица два ярко-голубых глаза невинно и лучисто посмотрели на Севастьянова — глаза отца, старшего Андрея Кушли.
Зоя не захотела ребенка.
— Ну что ты, — сказала она, — куда нам. С ума сойти.
Он смущенно промолчал. «Действительно, — подумал, — как она управлялась бы, такая молодая и ничего не умеет, самой еще хочется побегать и побаловаться на воле, и бабушки у нас нет присмотреть за маленьким, как у людей присматривают». Женщина с злым лицом и мешками под глазами, что швырнула ему Зоин узелок, в счет не шла — бабушки такие не бывают, и у Зои там все кончено.
Он взял аванс — тридцать рублей, заплатить доктору, и проводил Зою, вернее она его проводила, потому что она знала адрес, а он не знал. В темной передней они простились, неловко и наспех, шепотом, как заговорщики. Зою доктор увел в комнаты, а Севастьянову велел прийти за ней вечером. Севастьянов медленно шел прочь от дома, где она осталась, и думал — не оговорился ли доктор: не может быть, чтоб вечером она была уже настолько здорова, чтобы идти домой. Он слышал, что это дело опасное и кровавое; и она была бледна, когда, уходя в докторские комнаты, закрытые для Севастьянова, оглянулась и принудила себя улыбнуться. Ему эта обреченная улыбка причинила прямо-таки физическую боль. Причиняло боль и то, что доктор, видимо, раньше был знаком с Зоей и обращался с ней приятельски и небрежно…