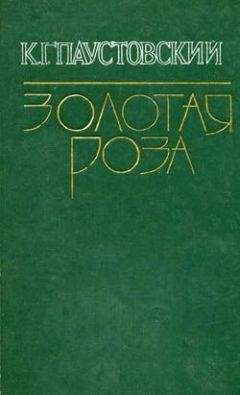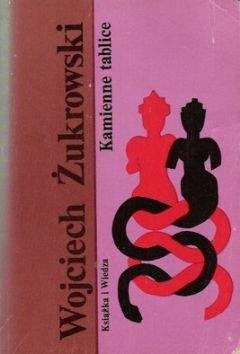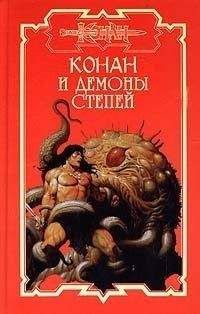Картина Якоби продержалась на выставке всего несколько дней, затем ее сняли и убрали — с глаз долой, подальше от публики… Но как причудливы и неисповедимы пути и судьбы!.. Вскоре картину купил Солдатенков, известный в то время коллекционер, и подарил Румянцевскому музею в Москве. А ровно через полвека, когда уже не было в живых ни Третьякова, ни Якоби, Румянцевский музей был закрыт, а картина «Шуты при дворе Анны Иоановны» перевезена в Лаврушинский переулок в Третьяковскую галерею, где и была «прописана» теперь уже навсегда.
* * *
Шишкин любил писать спокойные, светлые леса с высоким чистым небом, с высокими могучими деревьями, как бы подпирающими небо. Он словно брал вас за руку и вел в сосновые боры и дубовые рощи, в лесную глушь, показывал и говорил: «Смотрите, как хорош, прекрасен мир! Отчего же на земле столько скверны и пошлости? Это же не соответствует природе… Разве вы не видите? — И добавлял с грустью: — Нет, люди не научились еще понимать пейзаж, ибо пейзаж — самый молодой род живописи… А мы еще не научились как следует его писать. Да что и говорить!.. Прежде самые великие мастера, искусно изображая человеческое тело, становились в тупик перед обычным деревом — сосной или дубом… Много ли у нас приметных пейзажистов!»
Крамской как-то уже много лет спустя полушутя заметил:
— Шишкин любит солнце и день, Куинджи — луну и ночь. Отчего? Да оттого, говорит один, что днем светло и все хорошо видно. Зато ночью, утверждает другой, хорошо мечтается. Вот бы объединить этих двух пейзажистов… — И тут же сам себе возражал: — А может, не надо? Такого расточительства история нам не простит.
«…Мне Крамской в каждом письме описывает подвиги Ивана Ивановича, которым я по родству, во-первых, и по художественной связи, во-вторых, душевно радуюсь. Иван Иванович очень, очень много может сделать… только бы убедить его в необходимости, возможности достигнуть цели… Крамской пишет, что эти картины еще лучше прошлогодней конкурсной… Поздравляю его со всею горячею к нему моею привязанностью и от глубины души желаю как можно чаще слышать о его подвигах, — писал Федор Васильев сестре. — Жду обещанные фотографии с картин Ивана Ивановича. Целую тебя тысячу раз, Лиду тоже. Иван Иванович не любит вообще излияний, а потому жму ему руку и от всего сердца желаю написать еще тысячу прекрасных картин…»
Сам Федор Васильев писал последнюю свою картину, и предчувствие близкого, неизбежного конца уже наложило свой отпечаток — все в ней, в этой картине, было тревожно и незащищено: и ярким пламенем полыхавшие на болоте осенние деревья, как невырвавшийся крик отчаяния, тоски и боли, и резкие цветные переходы…
Картина осталась неоконченной…
* * *
Лето 1873 года Шишкин, Крамской и Савицкий провели вместе, уехав по железной дороге под Тулу, в местечко, будто самим богом созданное для художников. Глушь, первозданный покой. Вокруг богатые казенные леса — дуб, ясень, сосна, береза… Чернолесье. Неподалеку от усадьбы старая, полуразвалившаяся мельница с деревянной запрудой, а чуть подальше, в стороне, пруд, с почти неподвижной, застоявшейся водой, сплошь покрытой зеленой ряской…
Поначалу думали приискать местечко где-нибудь под Воронежом, на родине Крамского, но ничего подходящего не нашли. И вот оказались между Тулой и Ясенками, по Московско-Курской железной дороге, на полустанке Козловка-Засека в усадьбе Ваныкина… Усадьба заброшена, хозяева тут давно не живут, и большой каменный дом навевает тоску своим нежилым духом. Под окнами шумели старые липы с темнеющими провалами дупел. Вечерами прилетал филин, устраивался где-то неподалеку и жутко стонал, ухал, пугая детей. Все три семьи поселились в верхнем этаже, внизу были кухня и столовая с большим общим столом, за которым усаживалась вся «компания» — двенадцать или тринадцать человек… Детям раздолье. Художники тоже довольны. Жены пока молчат, не успев оглядеться, привыкнуть к этой глухомани. Самая близкая деревня в полутора или двух верстах, на закат; а если идти южнее, дорога выведет к Ясной Поляне в имение графа Льва Николаевича Толстого…
Лето было сырое, дожди шли часто — тихие, медленные, обложные, и все вокруг становилось непроглядным и серым. В просторных и гулких комнатах стойко держался годами копившийся запах плесени, отсыревшего камня и гниющего дерева. Скреблись и пищали под полом мыши. Евгению Александровну раздражала их постоянная возня, она брезгливо морщилась и, кутаясь в теплую шаль, зябко передергивала плечами:
— Господи, когда это кончится?..
Шишкин раздобыл где-то кота и принес в дом. Кот был толстый и ленивый, целыми днями он лежал на подоконнике, не подавая никаких признаков жизни. Но мыши почуяли опасность и притихли.
Иван Иванович с утра отправлялся на этюды — натягивал болотные сапоги, надевал широкополую шляпу, взваливал на плечи мольберт и все необходимое и уходил в дальние леса за станцию. Он увлекся в то лето изучением солнечных пятен на деревьях и написал несколько превосходных этюдов. Но солнечных дней было мало, сидеть сложа руки и ждать у моря погоды надоело, и Шишкин вдруг написал «пасмурный пейзаж» — «Дубовый лесок в серый день». Крамской только руками развел, когда увидел: так хорошо передано настроение, а главное — не только рука художника чувствуется, но и душа. «Иван Иванович все растет… тон, тон почуял…» Они теперь часто собирались в большой гостиной за самоваром и все вечера проводили в разговорах и спорах. Почта приходила сюда с большим опозданием, и что-то в жизни друзей было отшельническое. Крамской, посмеиваясь, говорил:
— Отшельники? Как сказать… На нас теперь смотрит вся Европа. А не смотрит, так будет смотреть, непременно будет. А жить «отшельником» вполне можно и в столицах, это от самого человека зависит. — Он торопливо перелистывал газеты, пробегая глазами убористые столбцы, и восклицал: — Вот вам, пожалуйста, и еще один «отшельник»! Господин Пржевальский… Где-то в Тибете чуть не погиб со своей маленькой экспедицией. Однако не вернулся, продолжал свой путь. Зачем, скажите на милость, это ему нужно? Сидел бы себе да посиживал в Петербурге, гулял бы по Невскому… Так нет же, не сидится. Не сидится нам? — ловко переводил разговор в нужное направление. — Чего мы ищем, к чему рвемся?
— К истине, — ответил Савицкий.
— А что есть истина?
— А то и есть, — вступал в разговор Шишкин, и стул под ним жалобно скрипел. — Малейшая ложь в искусстве делает искусство ничтожным и мелким.
— Это как и в науке, — добавлял Савицкий. — Истина прежде всего.
— Ну, поиски истины, друг мой, — возражал Крамской, — это еще не есть наука. А мы к тому же и разговор ведем не о том. Искусство в отличие от науки только тогда и сильно, когда национально. Я сознаю: есть Рембрандт и Веласкес, Рубенс и Ван-Дейк, их достижения общечеловечески, но ведь это общечеловеческое заключено у них в национальные формы. Вот в чем суть. И чем скорее мы это поймем, тем лучше для нас, то есть, я хочу сказать, для русского искусства.
— Однако ж! — сказал Шишкин. — Кое-что мы уже имеем и не с пустыми руками, не за милостыней идем в Европу. Вы же сами говорите…
— Да, отчасти это так, — согласился Крамской. — В милостыни мы не нуждаемся, подачек не ждем. Но вспомните, как греки и римляне воспроизводили своих великих мужей в портретах. Прошло больше двух тысяч лет, а Софокл не кажется мне смешным и сегодня. В то время как самые изощренные комбинации современных мастеров зачастую столь экстраординарны и недолговечны, что уже через какие-то десятки лет выглядят наивно… Вон даже гениальный «Петр» Фальконета смахивает скорее на римского императора, чем на Петра Великого… Не так ли?
— Нет, — возразил Савицкий. — Мне нравится Медный всадник. Без него я теперь и Петербурга не представляю.
— Мне тоже нравится «кумир на бронзовом коне», как назвал его Пушкин, — усмехнулся Крамской. — И я говорю: великое творение. Бога ради не уличайте меня в несуществующих грехах. Скажу лишь одно, дорогой Константин Аполлонович, к счастью или нет, но мы с вами не французы и не итальянцы, а русские. И об этом надо всегда помнить.
Иногда Шишкин замечал, как во время таких разговоров Евгения Александровна становилась скучной, в лице ее проступало какое-то брезгливо-болезненное выражение, в последнее время оно все чаще появлялось у нее, это странное, пугающее выражение, делающее Женю какой-то отчужденной и далекой. Может быть, ей надоели эти бесконечные разговоры о рубенсах и ван-дейках, о красках и холстах, а может, мучила ее, подтачивала исподтишка глубоко засевшая хворь… А тут еще тревожные мысли о брате, доживающем последние дни… Федор Васильев писал Шишкиным спокойные письма, а Крамскому еще весной с горьким отчаянием признался: «Если бы вы знали, мой дорогой, как худо вашему другу…» Боже мой, как худо!.. Евгения Александровна, кутаясь в шаль, уходила к себе в комнату и, уткнувшись лицом в подушку, беззвучно, придушенно плакала.