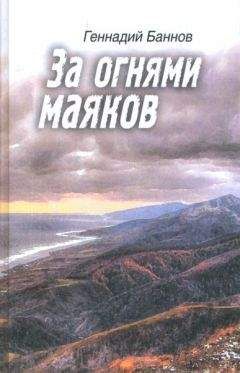Мы подошли и увидели неглубокую яму. В ней лежала старинная гончарная труба, покрытая пылью.
Черный человек оказался очень словоохотливым. Он вовсе не был археологом, производившим раскопки, как предполагал Гарт. Он назвал себя мелиоратором, работавшим над разрешением сложной задачи об орошении восточного Крыма. Фамилия его была Левченко.
Он сразу же заговорил с нами как со старыми знакомыми и остался очень доволен тем, что мы пришли в Старый Крым только для того, чтобы побродить по этим древним местам.
— Уважаю любопытных людей, — сказал Левченко и тут же вызвался показать нам город. Гарт поморщился. Он не выносил попутчиков и боялся их назойливых разговоров. Но делать было нечего, и мы согласились.
Левченко отпустил рабочих. Мы пошли за город, в сторону Агармыша. Холмы вокруг были покрыты множеством засохших цветов, еще не утративших запаха.
Из разговора с Левченко выяснилось, что он был человеком того склада, когда профессия, вопреки обычному положению вещей, ничего не говорит об умственном уровне и круге интересов. Это был человек вне профессии, или, вернее, человек, умевший вокруг своей профессии объединить много интересных познаний, мыслей и выводов, как будто и не связанных непосредственно с его основным делом.
Мне приходилось встречать моряков, умевших извлечь много любви к своему делу из знакомства с живописью, и художников, обогативших живопись благодаря знакомству со спектральным анализом и метеорологией.
Только ум, умеющий проследить неразрывною связь на первый взгляд несовместимых явлений, может создавать большие ценности.
Левченко не был археологом, но случайно в запылившемся докладе давно умершего ученого он прочел, что во время раскопок в Солхате, в восточном Крыму, были найдены разбитые гончарные трубы.
Левченко знал, что в средние века Солхат считался одним из самых цветущих городов Востока. Одно время Солхат соперничал с Багдадом и Дамаском. Он был окружен богатыми садами.
Сами собой напрашивались выводы. В Солхате было большое население, много садов, и поэтому город не мог жить без обильной и хорошей воды. Значит, вода была и исчезла только в последние времена. Откуда же ее доставали?
Гончарные трубы говорили о существовании древнего водопровода. Они давали возможность раскрыть загадку, погребенную под пылью многих столетий.
Левченко приехал в Старый Крым и занялся изучением этой каменистой земли.
Он увеличил на одного человека число чудаков, копавшихся на развалинах мечетей, и число стариков кладоискателей.
Почти все население Старого Крыма занималось поисками кладов. Звон лопаты о пыльный металл или мраморную капитель колонны, гулкий стук, свидетельствовавший о наличии подземных пустот, — все это волновало Левченко не меньше, чей опытных археологов и стариков кладоискателей. Разница была лишь в том, что старики искали золотые монеты, а Левченко — никому не нужные гончарные трубы.
Левченко проследил подземные пути труб. Они шли на Агармыш и на соседние сухие горы, где не было ни одного источника пресной воды. На вершинах гор трубы упирались в разрушенные каменные бассейны, засыпанные галькой.
Тогда Левченко догадался: Солхат собирал и пил горную росу. Она оседала на гальке, конденсировалась на ней во время переходов от ночного холода к жарким дням и стекала на дно каменных бассейнов. Оттуда по трубам роса струилась в мраморные городские фонтаны.
— Вы представляете, сказал Левченко, — какую вкусную и душистую воду пили в Солхате!
По лицу Гарта я видел, что от его раздражения против непрошеного попутчика не осталось и следа.
Открыв эти бассейны в горах, Левченко занялся изучением росы. Ее выпадало так много, что она могла дать воду не только Старому Крыму, но и всем окрестным полям и садам.
По словам Левченко, уже сейчас можно было получать росу из некоторых старинных цистерн. Нужно было только их расчистить и починить.
Мы вошли в редкий буковый лес на склонах Агармыша. Палый лист всех цветов — от лимонного до черного и от серого до пурпурного — лежал на траве, мокрой от крупной росы.
Синие тени деревьев придавали игре красок, рассыпанных по земле, необыкновенное разнообразие.
Весной окрестные леса тонут в непроходимой чаще цветов — в бересклете, крушине, боярышнике, маках, подснежниках, ландышах и аруме. Весной в Старый Крым привозят больных и лечат их ваннами из целебных трав и цветов.
Гарт остановился. Он снял шляпу и дышал теплым воздухом леса.
— Я свалял дурака, — сказал он мне и засмеялся. — Я согласился написать для Юнге рассказ о боре. Старик надеется, что это поможет осуществить проект о туннелях под хребтом Варада. Теперь же мне хочется заняться росой. Это мне больше по душе, — космические вещи меня пугают.
— А вы сделайте и то и другое.
— Придется, — вздохнул Гарт.
Но космические вещи продолжали преследовать Гарта. Левченко рассказал о двух проектах орошения Крыма. По одному проекту предполагалось перегородить узкий Керченский пролив плотиной, чтобы закрыть прилив в Азовское море соленой черноморской воды. Через несколько лет Дон и Кубань превратили бы это море в пресное озеро, а сеть насосных станций и каналов оросила бы азовской водой степной засушливый Крым. Этот проект был отвергнут. Был принят проект, по которому часть вод Днепра по каналам пойдет от Каховки в крымские степи. Но осуществление этого проекта еще не началось.
И, разогнав крутые волны дыма, Забрызганные кровью и в пыли, По берегам широкошумным Крыма Мы красные знамена пронесли.
Эдуард Багрицкий
Мы вернулись в городок и зашли в маленький ресторан. Кроме нас, никаких посетителей не было, если не считать старого пса-крысолова. Он деликатно открыл дверь лапой и разлегся у наших ног. Он вздыхал и искоса поглядывал на нас, как бы спрашивая, когда мы наконец перестанем говорить. Говорили не мы, а один Левченко.
Кофе наш остыл. Заведующий рестораном — татарин — уснул за стойкой.
— Впервые я столкнулся с археологией очень диковинно, — рассказывал Левченко. — Это было в Керчи, в тысяча девятьсот девятнадцатом году, при белых.
Я вернулся из германского плена, пробирался к себе на родину, в станицу Тихорецкую, и застрял в Крыму. Отец мой был машинистом на Северокавказской дороге.
Я вступил в знаменитые партизанские отряды Евгения Колдобы. Действовали мы на Керченском полуострове и все время тревожили белых.
Тогда Крым был уже отрезан от севера. Дрались мы на свой страх и риск. В конце концов белые загнали нас в керченские каменоломни.
Под Керчью и горой Митридата переплетаются сотни подземных ходов, выбитых в желтом известняке. Они образуют лабиринт на многие километры. Никто, кроме бродяг, прятавшихся в этих подземельях, и археологов, их не знает.
Керчь стоит на земле, ноздреватой, как губка.
Каменоломни всегда наводили страх на керчан — в них скрывались бандиты. Их там не могли разыскать годами.
Выходов из подземелий было много. Можно была спуститься под землю в Керчи, а выйти в степи за пять-шесть километров от города.
Керченские подземелья создавались столетиями. Их называют каменоломнями, но это не совсем точно. Сначала это были катакомбы первых веков христианства, подземные убежища еще более ранних времен, а потом каменоломни и штольни, вырытые для раскопок. Все это слилось в один подземный город.
Нас загнали в каменоломни около Аджимушкая.
Мы пытались делать вылазки, но белые постепенно замуровывали вход за входом. Незамурованные входы они оплетали колючей проволокой и ставили вблизи пулеметы.
При каждой попытке прорваться они поливали подземелья пулями и забрасывали ручными гранатами.
Мы сидели в темноте, почти без воды и света. Нефть ми берегли для факелов на случай переходов по катакомбам и вылазок. Обыкновенно горели у нас коптилки.
Я сказал слово «обыкновенно» и понял, насколько оно не подходит к тому, что происходило с нами. Все это было совсем не обыкновенно, а страшно и почти неправдоподобно.
Коптилки освещали трупы товарищей, умерших от ран и сыпняка.
В нескольких местах вода капала со стен. Это было единственным нашим спасением. Запасы черствого хлеба иссякали.
Первые дни мы потратили на то, чтобы отделить раненых от больных. В одной из катакомб мы устроили подземный лазарет.
Заведовал им единственный среди нас ученый человек, археолог Назимов — худой и бледный заика. Он носил желтые очки. Мы даже находили в себе силы смеяться над его очками. Он не снимал их, несмотря на полную темноту катакомб.
Назимов болел страшной болезнью — тромбозом мозга. В мозговых сосудах образовывались сгустки крови — пробки. Каждую минуту он мог умереть от кровоизлияния в мозг. Он, заикаясь, говорил, что единственное лекарство от этой болезни — пуля в голову и поэтому смерть ему не страшна.