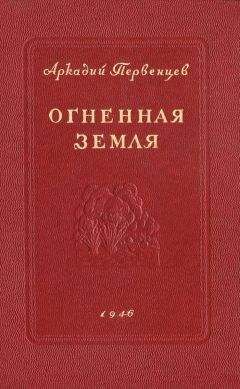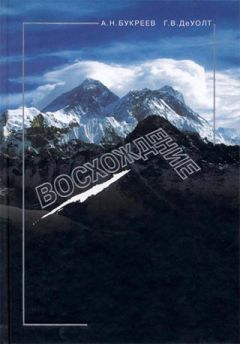— Что‑то Звенягин плох.
— Волнуется. Сколько начальства…
Звенягину поручалась почетная боевая задача: первому прорваться к берегам, занятым противником, и высадить штурмовые группы десанта. На совещании Звенягин доложил подробности операции. Командующий, повидавший за годы войны разных людей, — и храбрецов и трусов, — слушал его внимательно.
Командующий знал Звенягина и доверял его военному опыту. Перед высоким военным собранием стоял человек, на которого вполне можно положиться. За ним слава блестящих десантов, где счастье неизменно сопутствовало ему.
Но почему Звенягин явился на совещание в изношенном кителе, небритый, без орденов и медалей?
«Ему необходимо передохнуть», — подумал командующий, пытливо изучавший во время доклада каждый жест и выражение лица Звенягина.
Но не время…
После совещания командующий подозвал Звенягина и пошел с ним в дом. Там, оставшись наедине, генерал спросил его:
— Вы уверены?..
— Уверен. Только бы не разыгрался штормяга, товарищ генерал армии.
— Проведете операцию, и я походатайствую перед вашим начальством… вам будет тогда самый раз отдохнуть.
Звенягин изменился в лице. В глазах мелькнула затаенная тревога. Это не ускользнуло от внимания генерала, но он отогнал от себя дурные мысли и на прощанье дружески положил свои руки Звенягину на плечи.
— Желаю удачи и… следующей награды. Куда только вы будете вешать ордена, Звенягин, а?
Разговор с командующим приободрил Звенягина, но стоило ему остаться одному, как тревожное чувство снова завладело им. Двадцать километров сквозь минные поля, под артиллерийским огнем, под прожекторами и прицельными снарядами противокатерных батарей. Первому прорваться и проложить дорогу через пролив! Но ведь раньше было еще похуже! Хотя бы под Новороссийском. 'Может, тогда не все понималось им. Лучше бросаться на опасность как бы с завязанными глазами. Как плохо потерять доверие к собственным силам, к своему счастью! Тогда почему сегодня он откровенно не признался командующему, которого он любил, как отца, и уважал как военачальника? Остановила гордость офицера и бремя ответственности за славу?
… В тесной казачьей хатенке было накурено и шумно.
Своего командира дивизиона офицеры встретили приветствиями, расспросами. Звенягину всегда были по душе веселые товарищеские «сборища», как он выражался. Но сейчас он не мог отрешиться от своих мыслей, хотя внешне старался держаться спокойно.
— Наши расчеты приняты командованием фронта!
Шалунов протиснулся к нему с двумя чашками в руках.
— Тогда следует выпить, товарищ капитан третьего ранга.
— Нет, Шалунов.
Комдив присел рядом с Курасовым, и тот один только понял, что Звенягину не по себе. Он осунулся за последнее время, пожелтел как‑то. Куда пропала обычная щеголеватость командира дивизиона. Потертый и облинявший китель — в нем был он при новороссийском десанте — почти не снимался; не изменял Звенягин и своей старой фуражке с узкими полями и выцвет- Щей тульей, предпочитая ее новой фуражке с дубовыми листьями по козырьку.
Звенягин молча чистил огурец. Курасов отставил стакан и в его скошенных узковатых глазах появилась тревога.
— Павел Михайлович, — тихо сказал Курасов.
— Ну? — Звенягин тяжело повернулся к нему.
— Выпьем за успех, Павел Михайлович.
— Нет.
— Почему?
— Потому что за успех.
— Не понимаю.
— Перед успехом не пьют.
Звенягин поднялся, оперся кулаками о стол. Клеенка на столе была липкая и мокрая. Он брезгливо отнял руки, посмотрел на них. Опущенные его веки подрагивали. Говор сразу утих. Все встали.
— Продолжайте ужинать, садитесь.
— Так и не составили нам компании, товарищ капитан третьего ранга, — пожалел Шалунов.
— Водки не хочу, Шалунов. Вот если бы хорошего борща.
— Борща? Где же его найти? Хотя я сейчас смотаюсь.
Курасов остановил его.
— Я знаю, борща нет ни на камбузе, ни у хозяйки.
— Воюем на Кубани, — Звенягин ухмыльнулся, — а вот когда захочешь борща… в последний раз, — тихо добавил он.
Только Курасов услышал эти слова. Наклонившись к нему и прихватив его руку, он спросил:
— Почему, Павел?..
— Сам знаешь… Ну, пусти, Анатолий. Только им, — он указал глазами на офицеров, — ни… ни… Это у меня пройдет.
— Ты куда?
— Пойду проветрю чердак… Вы здесь не задерживайтесь. А то скоро начнется месиво. Дай‑ка мой макинтош…
Погода опять испортилась. Сверху сыпался не то дождь, не то мелкий снежок. Звенягин расстегнул ворот, поднял голову. «Скоро я, может быть, не буду этого ощущать, — подумал он с каким‑то умиротворенным спокойствием. — Все будет холодно, темно». Он вспомнил приветливый Ставрополь, где протекло его детство, мелкую речушку Ташлу, архиерейские пруды, где научился плавать, раскаленные суховеи, прилетавшие из ногайских степей, — такие суховеи, что не раскрывай на улице книги — враз скрутит трубками все листы, вспомнил мать — трудолюбивую и любящую, она ждет — не дождется его. А где теперь товарищи его игр? Как мелькали их босые, растресканные пятки, покрытые песчаной пылью. А когда ливень, такая теплая вода неслась по Лермонтовской улице, по голым ногам били щепки…
— Чорт! — воскликнул Звенягин. — Неужели подходит?
Вот Куников… перед десантом подолгу просиживал в его комнате на Тонком мысу, пил из кружки чай и все думал, соображал. Нельзя ли, мол, приспособить камышинки, чтобы его десантники, высадившись вдали от берега, могли подобно древлянам незаметно подкрасться к врагу. Он не переставал думать о своих людях до самого конца… Зимой, в феврале, Звенягин на каТере вез его с Малой земли тяжело раненого. Куников просил воды и почему‑то яблоко. Воды ему дали, но яблок не было. Он предчувствовал свою гибель… так говорил Баштовой.
Звенягин спустился к морю. На берег с шипеньем выносились волны. Ноги промокли, — ничего! Как в детстве, в ливневую ставропольскую весну… Вдали вспыхивали прожекторы над Керчью, у Эльтигена. С горы Митридат точно бросили золотой меч, размельчивший в искристую пыль крупинки дождя. С горы Митридат уже ищут его, ставропольского мальчишку…
Потом пришли воспоминания совсем недавних мирных заокеанских походов — Порт–Саид, Сингапур, яркие гавани Цейлона… Он, капитан торгового судна, мог позволить себе шелковую безрукавку, белые туфли. Легкие и какие‑то светлые ветры ходили под шелком рубахи, по мускулам, запеченным тропическим солнцем…
Звенягин, скользя по глинистой тропке, поднялся на берег.
Захотелось человеческой ласки, тепла. Кто мог восполнить ему сейчас хоть частицу того, что уходило, напомнить о прошлом? Звенягин вспомнил Тамару и направился к ней, не разбирая, где лужа, где вязкая, словно тесто, грязь. Тамара еще не спала и, казалось, поджидала его. В этой восемнадцатилетней девчонке как бы проснулась мать. «Павлуша, — ома испуганно и ласково проводила подрагивающими пальцами по его спутавшимся мокрым волосам, по лбу, — Павел, мой милый!» В комнатенке с маленьким заплаканным окошком и стенами, пахнущими сырым мелом, Звенягин снял плащ и поцеловал Тамару холодными губами.
— Меня не берут в десант, — сказала девушка тихо.
— Хорошо,
— Я очень просилась у командира полка…
Тамара говорила не то, что ей хотелось бы сказать. Звенягин увидел, как она дрожит и как ее глаза налились слезами.
— Ты озябла, Тамара, — он натянул на нее одеяльце, сшитое из лоскутков, и поверх одеяла приник к ней своим истосковавшимся телом.
— Мне как‑то не по себе, — сказал он, еле раздвигая губы.
— Что ты, Павел?
Откинув одеяло, Тамара схватила его голову руками и целовала его немного по–детски, толкаясь то в щеку, то в шею горячими губами и мокрым от слез носом.
Звенягин прижался щекой к ее ладони. Казалось, стоит только встряхнуться, чтобы вылетело все из головы, сейчас такой тяжелой, словно налитой ртутью. Он обнял Тамару и сильно прижал к себе. Ее белокурые, с золотистым отливом, волосы рассыпались по оголенным плечам, и даже при свете чадной коптилки она была удивительно красива. Звенягин приник к ее груди, поцеловал ее. Тамара полузакрыла глаза, чуть откинулась… Но Звенягин видел сейчас в ней только то живительное и священное, что скрыто в женщине, — мать.
— Вот и все, — Звенягин прикоснулся губами к ее руке.
— Павлуша, Павлуша, — зашептала Тамара, — будь собой… Улыбнись, ну, ради бога…
Но ничто уже не могло вернуть его к прежнему. Что- то словно разрывало тяжестью своею тонкие нити, связывающие его с жизнью.
Дождь перестал, но усилился ветер. Ставни стучали и скрипели в петлях. Невдалеке стреляли артиллерийские батареи. Позванивало плохо укрепленное замазкой стекло. Эти удары пушек шли за ним от Геленджика до Тамани. Сопутствовали, помогали и… подстегивали его Они преследовали врага и одновременно и его, Звенягина, мозг и нервы. Палил киевлянин Солуянов, командир дивизиона, вместе со своими офицерами Исаю- ком, Гарматой, Андриановым — молодыми людьми, не устающими от артиллерийской стрельбы, от постоянных поисков тригонометрических совпадений целей, возмужавшие в боях офицеры, последовательно, с фанатичным упорством идущие как возмездие по пятам германской армии.