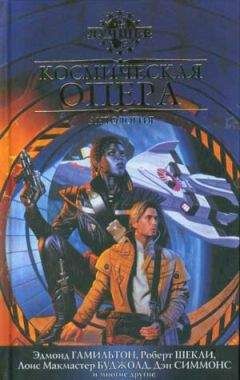— Той приведе убедителни доказательства! — важно поднимал он вверх палец.
— Какие ж? — весело поинтересовался Блажевич.
— Той каза́л без много при́казки: влю́бен.
Ему это показалось недостаточным, и он уточнил:
— Влюбен до уши.
Все, усмехаясь, закивали головами, понимая, что это действительно очень существенное доказательство.
Выпили немного вина, и Влахов потребовал:
— Ха́йде да пе́ем!
Но монтажники дружно тискали Павла, поздравляли его с удачей и всячески дурачились. Тогда Влахов прикрикнул на них:
— Де́ца, стойте ми́рни!
Воспользовавшись наступившей на мгновение тишиной, Влахов быстро вытащил из кармана гармошку и жалобно поглядел на бригадира:
— Мо́же?
Монтажники уселись к Ивану на кровать, положили друг другу руки на плечи, и снова подмосковные вечера засветились лунным серебром, и снова парню было трудно высказать все, что у него на сердце.
Анна ждала Павла на свидание, кусала тонкие губы и злилась: Абатурин запаздывал.
В городском саду, пустынном в это время дня и потому печальном, надоедливо каркала ворона. Она сидела почти над головой Анны, грязная носатая птица, и выплевывала свое «Каррр!» с такой точностью, будто внутри у нее был запрятан часовой механизм.
Вопли птицы мешали Анне сосредоточиться и принять хотя бы приблизительное решение.
«Как все-таки поступить? Что делать?» Павел нравится ей. Да нет, «нравится» — не то слово. Она любит. Любит, верно, с той самой минуты, когда увидела его у газетного киоска — такого милого и неуклюжего, в бесформенных валенках и ватнике, такого, кажется, испуганного и красивого.
Но что же из того? У нее нет права на любовь, и с этим пора примириться.
Сколько раз тонули подушки в слезах, сколько ночей провела без сна — она хорошо помнит длину тех ночей! — прежде, чем приняла горькое свое, тяжкое решение. Честное решение честного человека. Она будет жить и бороться, пока хватит сил, будет полезна людям, но навсегда останется одна. Ни один мужчина не станет ей мужем, чтобы потом проклинать час, когда встретил ее. Ни один мужчина не будет видеть, как болезнь постепенно разрушает ее тело, тело, которое можно жалеть или презирать, но не любить.
Ни один. Никогда!
Она твердила слова, пытаясь поддержать свою слабеющую волю, и уже чувствовала, что лжет себе, что не в силах будет исполнить этот зарок, злую и тяжкую свою заповедь.
«Гнусно! Люди покоряют космос, поверили в кибернетику, и она открывает им невиданные, почти страшные дали, а глупая и жалкая болезнь, истоки и причины которой известны даже школьникам, продолжает существовать и собирать свою жатву. Есть отчего завыть в голос!»
Анна не сумела перебороть себя тогда, у газетного киоска. Надо было уйти от этого наивного и чистого человека, уйти раз и навсегда, чтобы не подвергать больше испытаниям душу.
Но, боже мой, она ведь человек, и ей тоже хочется хотя бы мимолетного счастья! В конце концов, Анна никого не обманывает, она сказала ему все о своей болезни, ничего не скрыла.
И он ведь тоже болен. Это очень меняет дело. Они пойдут рука в руку по жизни, два несчастных, но все-таки сильных человека.
А что, если это только ложь? Его болезнь — ложь? Он совсем мальчик, он мог пожалеть ее и сказать неправду. А зачем? Какая ему корысть? Даже обнимая и целуя ее, он, наверно, будет помнить: она тяжко больна. Ох, как слякотно на душе!
Анна непроизвольно вытерла слезы с лица. Ворона снова закаркала над ее головой, и девушке почудилось, что эта злая птица русских сказок хохочет над ее бедой.
— Кыш! — закричала на нее Анна, но ворона только повела блестящим выпуклым глазом и осталась на месте.
«Господи! За что? — думала Анна, горбясь и стараясь унять дрожь в плечах. — Почему у всех есть своя доля счастья, и только я, Анна, не могу даже помечтать о радости? Почему!».
— Не надо истерик! — внезапно сказала она себе вслух. — Слабость и глупость любят задавать много вопросов, на которые любой ответ плох. Больна, вот и все, надо лечиться.
Но от этих трезвых мыслей не стало легче. Она посмотрела на часы и перевела взгляд в конец аллеи. Каждую секунду там мог появиться Павел.
«Если он здоров и мистифицирует меня, — подумала Анна, — мы больше не встретимся… не должны больше встречаться…»
И снова поняла, что пытается лгать себе. Она уже не в силах порвать с Павлом. Синь его глаз, его угловатая и чистая речь, стук его сердца, который не раз чувствовала Анна, прижимаясь к Павлу, — как же без всего этого теперь?.. Что же делать?..
«Ну, а если он, правда, болен? Разве это что-нибудь меняет в том окончательном решении, которое я должна принять? Едва ли. Нам не разрешат иметь детей. Семья без детей? Это союз, противоестественность которого равна его призрачной прочности».
Что же делать? Как поступить?
А не пытается ли она, Анна, усложнить и без того запутанное положение? У Павла начальная стадия болезни, врачи перехватили ее вовремя и, можно надеяться, справятся с недугом. Анна через полгода, ну через год тоже будет здорова. Нет, надо больше надеяться на себя и на людей, надо больше верить себе и людям, — и тогда все будет хорошо. Тогда ничто не помешает ее счастью и счастью Павла, — их общему счастью.
Вот он придет сейчас, жданный, открытый глазам и душе, будет смешно хлопать длинными ресницами, тискать ее ладонь в огромном своем кулаке, и его губы станут вздрагивать от радости.
Нет, они всегда будут вместе, потому что — как же теперь порознь? И до свадьбы, и потом, в замужестве, она будет ему верный товарищ и настоящая жена. И совет обо всем, и узнавание жизни вместе, и беду — на четыре плеча. Все — пополам.
Анна попыталась представить себе, как это получится в буднях.
— Что такое любовь, Паня? — спросит она.
— А то ты не знаешь? — улыбнется Павел.
— Знаю, милый. Это совсем не только глядеть друг на друга. И совсем не обязательно — на весь мир одними глазами. Тютелька в тютельку. А это вот что — видеть одну цель. И еще: любовь всегда должна быть сюрпризом. Неожиданным подарком.
— Ты умница, Анна, — похвалит ее муж. — Я думаю: любовь — всегда тайна, всегда немножко туман и хмель. «Трезвая любовь» — это что-то не то. Право же…
Потом они, конечно, станут говорить о семье. О том, как «я» уступает свое место «мы», тому «мы», в котором, как в сплаве, слиты оба «я».
И их дети — тоже сплав, который нельзя разъединить и нельзя присвоить ни одному из них в отдельности.
Как-нибудь он придет с работы и скажет:
— Знаешь, о чем я сегодня думал, жена? (Сколько, интересно, она будет привыкать к слову «жена» — год, два, всю жизнь?). Вот, о чем думал. Человек должен давать жизни больше, чем берет от нее. И нельзя пить красоту, не заработав ее. Это — грабеж. Мы научим своих детей слову «человек» и «совесть» сразу после слов «мама» и «папа». Кстати, как вели себя сегодня твои ученики?
Она сообщит, как вели, а потом скажет:
— Мне надо посоветоваться с тобой, Павел. Думается, в нашей системе образования есть серьезные недочеты…
— Какие? — спросит он, немедленно отложив в сторону газету, весь — внимание.
— Мы даем знания ребенку в качестве незыблемых и неопровержимых истин. Это, пожалуй, мешает маленькому человеку самостоятельно мыслить и учиться анализу. Пусть ребята больше спорят и сами добывают истину. Понятно, спорят в разумных пределах и добывают истину с помощью взрослых. Но пусть не вызубривают, что «Онегин — продукт дворянского общества» или что-нибудь в этом роде.
И Павел ответил, что в мыслях жены есть известная логика.
Они будут сообщать друг другу обо всем, что увидят за день, и складывать об увиденном общее мнение.
— Мне менее понятны наши молодые стиляги, — скажет Анна, — чем бедные аборигены Австралии. Иные обитатели того материка едят червей и поклоняются крашеным чуркам, потому что они — дети своей страны, темные души нищеты и голода. А откуда эти, наши дикари? Глупое их «прошвырнуться» и «железно» ничем не лучше ритуальных воплей австралийцев.
— Ты упрощаешь, Анна, — ответит Павел. — Молодость всегда ищет, мятется, и ошибки в эту пору — небольшая трагедия.
— Я понимаю, — не согласится Анна, — хотя все-таки без ошибок лучше. Но наши дикари не ищут, а только мятутся. Вся их мировая скорбь и томление сосредоточены на брюках дудочкой и, может быть, на опрокидывании общественных вкусов.
— И это не очень страшно, жена. В прошлом общество выработало столько стандартов, что люди устали от них. Молодежь — самый впечатлительный и нетерпеливый слой общества. Это — не опрокидывание общественных вкусов, это — желание разрушить рамки изживших себя стандартов.
— Я ничего не имею против, — скажет Анна. — Узкие брюки сами по себе — не грех. Беда в другом: монополию на них сначала захватили люди с узкими мыслями, с узкими от презрения глазами. Гипертрофия — всегда болезнь.