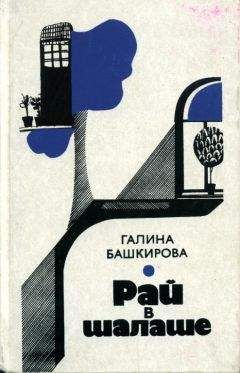— Минеральной воды у нас не бывает, — выждав паузу, еще ироничней отнесся к Косте официант и с ленцой, расслабленной походкой удалился.
— Слава богу, — вздохнул Костя, — с заказом покончено, остается терпеливо ждать. Ты мне скажи, тебе совсем не понравился доклад Голодкова? У тебя такое недовольное было лицо, когда ты его слушала...
— Знаешь, Гриша сделал слишком красивый доклад. Меня насторожил заголовок: «Роль статуарности в произведениях Пушкина». Много претензии и непонятно.
— Почему непонятно?
Таня пожала плечами.
— Ты зачем хлеб жуешь? Опять ничего не ел? — обеспокоенно спросила она.
Вид у Кости был неважный — желтоватые круги под глазами, смятое лицо, тусклый взгляд из-под очков.
— С утра у меня была лекция-четырехчасовка, в перерыве на кафедре чаем поили, с кексом. Кекс с утра, на пустое пузо, сама понимаешь.
Таня поежилась, поправила ему галстук, выбившийся из-под пиджака, серый одноцветный галстук, завязанный мелким немодным узлом. Рубашка была несвежая, но это уж как всегда, Костя такие мелочи не замечал, и бесполезно было бы сетовать и возмущаться.
— Почему ты не носишь денисовский галстук?
— Какой? Тот французский? — Костя выразительно пожал плечами. — Не знаю, милая, не хочется как-то, не идет он мне. Не сердись, — Костя погладил ее руку, — куплю новый. — Он искательно заглянул Тане в глаза. — Я тебе не нравлюсь? Некрасивый, да? Впрочем, оставим это, — он обиженно дернул подбородком. — Скажи, почему тебе не показался Голодков?
— Понимаешь, — вздохнула Таня, — сам он не знает, что говорит, твой Гриша. И это при том, что в докладе его что-то мелькало. — Таня на секунду задумалась. — Смотри, герои у Пушкина гибнут, сталкиваясь с неподвижностью, статуарностью, чем-то роковым и гибельным для личности, — идея современная, можно сказать, психофизиологическая: стресс героя — холодный антистресс возмездия. Под эту идею можно было бы собрать массу фактов.
— Танечка, умница! — Костя покровительственно улыбнулся. — Голодков ни словом об этом не упомянул.
— Естественно, Голодков филолог и говорит только филологическое.
— Но позволь, Танечка, ты несправедлива, умница моя, я тобой доволен, но ты несправедлива. Гриша говорил о способах общения у пушкинских героев, это уже какая-то попытка прорваться дальше. А., жизнелюбец и герой, сталкивается с Б., стремясь получить от него некое наслаждение — власть, славу, деньги, вещи по сути незаконные, не причитающиеся ему по праву.
— Герои всегда получают то, что им не положено по праву.
— Умница! Но у Пушкина важна закономерность — все его герои терпят поражение от всевластного, неподвижного Б. Вот в чем идея Голодкова, и ты знаешь, я полагаю...
Костя не успел договорить, появился официанте пышным блюдом зелени, с маринадами — маринованным чесноком, баклажанами, перцем, редиской, редкой в это время года, помидоры горой лежали на блюде, малиновые, сочные, совсем не московского вида.
— С горячим подождать? — лениво спросил официант, понимая, должно быть, что они не торопятся.
— Разумеется, — подчеркнуто любезно отозвался Костя.
— Ну? — спросила Таня. — За что пьем?
— За наши доблести, ура! — Костя выпил, поморщился, мужественно похвалил неизвестное ему вино и начал стремительно есть. Минут пять он ел спокойно, шутливо почмокивая, вздыхая, наслаждаясь, но на большее его не хватило. Костя забеспокоился, полез в портфель, достал листок бумаги, из кармана пиджака вынул ручку. Таня, не обращая на Костю внимания, продолжала с аппетитом есть. А Костя между тем уже расчерчивал свой листок на три части — «А», «Б», «название произведения».
— Костя, уймись, я тебе положила на тарелку вкусные вещи.
— Не мешай, Танечка, я хочу договорить. Видишь, я пишу — «Борис Годунов».
— Загляни в свою тарелку, ну пожалуйста! — взмолилась Таня. — Это так вкусно!
— Распустилась совсем, — ворчливо сказал Костя, — чревоугодница несчастная, слушай, видишь, я написал — Борис Годунов... кого он у Пушкина боится? Мертвого, то есть статуарного младенца. А еще? А еще Борис как бы разбивается о статуарное молчание народа: «народ безмолвствует» — и в эту минуту безмолвие народа напоминает о близкой гибели самозванца. Идем дальше. Тебе интересно?
— Я это сегодня уже слышала!
— Нет, ты не так слышала. Дальше идем. «Полтавская битва». Авантюрист Мазепа и Петр. Петр в поэме неподвижен, статуарен, он не личность уже, а олицетворение государственности. «Евгений Онегин» — в ту роковую минуту, когда он приходит молить Татьяну о любви, слышны командорские шаги генерала. Германн в «Пиковой даме» и старая графиня. Кто она, как не мертвец, статуя? В «Медном всаднике» еще эффектней. Петр там — настоящая статуя.
— Костя, давай выпьем! — предложила Таня.
— Ты не слушаешь, бездельница, совсем отбилась от рук. Погоди, — заторопился он, — Пугачев и Екатерина...
— Костя! — перебила его Таня. — Бог с тобой, ладно. Ты мне скажи, эти А. и Б. в самом деле тебе в Пушкине что-то новое открыли?
— Почему непременно новое? — возмутился Костя. — Как ребенок, право. Для тридцати голодковских лет вполне приличное сообщение. — Костя взял горсть травы с блюда, пожевал, поморщился, поспешно запил вином, сморщился еще больше, поковырял то, что Таня положила ему на тарелку. — Это что такое? — спросил он подозрительно.
— Это баклажаны.
— А трава как называется? Горькая какая-то.
— Запомни, по-русски просто мята. Ее надо есть с сыром.
— Да, вспомнил, ты хочешь выпить? По лицу вижу. Сейчас выпьем. Зря ты только на Гришу кидаешься. — Он замолчал внезапно, приложил палец к губам, задумчиво склонил голову набок — значит, думал. — Ты знаешь, я вдруг сообразил, что Голодков прав, — Костя улыбнулся. — Напомни мне, чтобы я ему кое-что объяснил. Помнишь пушкинские стихи «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем»? Помнишь, о чем они? О женщине, которая холодна, как статуя... вот-вот, в них ключ к Гришкиному докладу. Если учесть, что Пушкин любил сравнивать последние мгновенья любви с гибелью... да, все сходится, ты права, это ты мне подсказала, все это очень глубинно, все повязано с судьбой самого Пушкина, его предчувствиями и страхами: холод, рок, столкновение с неведомым, несущим гибель, да-да, ты права, стресс человека, идущего навстречу смерти... Тебе не нравится то, что я говорю, да? Сейчас замолчу, оставим это, не будем о печальном,..
Официант принес им плов, с подчеркнутым уважением — не к ним, к еде, пище, продукту! — разложил его по тарелкам. Плов оказался вкусным необыкновенно, с травами, изюмом, подкрашенный чем-то желтым, и Косте невольно пришлось замолчать.
...Денисов, должно быть, давно покормил Петьку, вернувшегося из школы, и, наверное, сходил в магазин, но ужина Таня им не оставила, скоро придется начать торопиться домой.
— Милая, — Костя внезапно поднял голову, — знаешь, что меня беспокоит? — Он легко, одним пальцем коснулся ее руки. — Ты нехорошо настроена, какая-то ты фыркучая сегодня. Ну что тебе этот Голодков? Что делать, милая, не всем быть умными, — он вздохнул, — ум — такой тяжелый крест. Впрочем, к чему тебе мои назидания, с тобой я элементарно глуп, это факт. Кстати, я прислушался к себе и понял, что не наелся. А ты?
— Давай закажем еще плова, а может, хочешь шашлыка? — предложила Таня. — Только скажи, который час?
Костю передернуло.
— Не смотри на часы, рано еще. Давай закажем два шашлыка и два плова.
— С ума сошел! Не съедим!
— Уже сошел, ну и что? Ты разве не знала?
И они все это заказали, и еще бутылку коньяка, так попросил Костя, и все равно суровый официант их заказ не одобрил, ибо не в силах человечьих было бы столько съесть — тогда зачем переводить продукт? Они выпили вина и снова замолчали. Таня подъедала по зубчикам маринованный чеснок, лиловатый, тугой, недавно, видно, приготовленный, острый настолько, что захватывало дух. Она поймала себя на мысли, что Костя, наверное, прав, то, что она таила в себе последние недели, уже прорывалось наружу. Что ей, на самом деле, Гриша Голодков, почему она так строго его осудила, лохматого, иссиня-бледного Гришку, непомерно тощего в своих протертых джинсах? Голодкову за тридцать, жене его тоже, она сидела сегодня рядом с Таней, пухленькая, добродушная блондинка; семейство Голодковых все еще не защитилось, денег мало, двое детей, оба работают не по прямой своей профессии, в каких-то скучных институтах, и вместо того, чтобы подрабатывать деньги, Голодков сидит вечерами над Пушкиным, и жена его это одобряет, слушала сегодня Гришу, гордясь и сияя. Ну, а то, что Гриша целиком в плену у того, как принято было последние пятнадцать лет разбирать тексты исследователями, принадлежавшими к так называемому структуралистскому течению... за что тут осуждать Гришу? Всесилие все той же научной парадигмы, о которой в последнее время много думала Таня. На этой улице, в этом доме, на этом семинаре — было принято разговаривать только так. Голодков со студенческих лет усвоил и этот стиль разбора, и жаргон, и способ комбинирования фактов, и способы их подачи. Получилось грамотно, пристойно, не хуже, чем у людей... Странное чувство, но нынешний семинар показался Тане прощанием с тем, что когда-то, в дни ее ранней молодости, Таню так захватывало. А сегодня остался горьковатый привкус поминок. Поминок по любому виду разъятия как способа исследования, вдруг подумала Таня. Может быть, не случайно взлет структурализма пришелся на те же годы, что и бум в точных науках, пришло ей в голову. В сущности, в периоде «бури и натиска» лежал тот же принцип, что и в физике, — точность, препарирование на куски с тем, чтобы в срочном порядке открыть тайну, познать чудо и, познав, немедленно этим чудом воспользоваться. Для чего, собственно говоря, было разымать Пушкина, Лермонтова, Тютчева? Чтобы срочно обучиться сочинять подобное — гениальное, таинственное, невоспроизводимое? Воспроизведем! — это был пафос времени. Зачем? Это был совсем другой вопрос. Зачем ставить на конвейер Пушкина, Шекспира, зачем машинам сочинять человеческую музыку? Теперь, спустя много лет, нам это неясно и даже смешно, но шестидесятые годы прошли под знаком ускоренного познания чуда жизни. Все они, совсем тогда молодые, и впрямь ожидали неслыханных взлетов, все и впрямь жили надеждой, и в психологии после многих лет застоя так было, Таня пришла в науку как раз в это время. Это было время горячечных ожиданий и напряженной работы в надежде перевернуть, изменить лицо науки и тем самым лицо человеческое в сторону точности и кибернетического оптимизма.