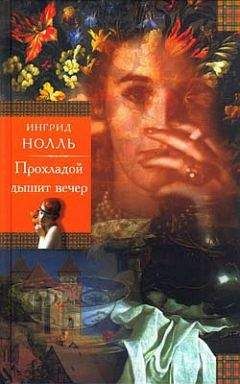Неподалеку от площади Шефтл соскочил с подножки. Внезапно послышался крик:
— Шпион!
— Шпиона поймали!
Прохожие с обеих сторон улочки бежали к быстро увеличивавшейся толпе, которая теснилась вокруг высокого человека с рыжей бородкой и в пенсне.
— Поймали голубчика!
— Где тут вокзал, спрашивает…
— Ты смотри, бородку себе приклеил!
— А ну-ка, сорвите с него бородку!
— Говорит, будто он из эвакуированных…
— А вы думали, он скажет: «Я шпион»? Посмотрите на его окуляры, сразу видно, что за птица!
— Тише, вон идет милиционер! — крикнула пожилая женщина.
Как Шефтл ни торопился, не мог не задержаться на минуту. Широким пружинистым шагом подошел милиционер. Увидев человека с рыжей бородкой, он сердито плюнул:
— Тьфу, черт, опять поймали… Отпустите его! Это же эвакуированный.
«Зря потратил время», — с досадой подумал Шефтл и торопливо зашагал к Элькиному дому. Он был уже совсем близко. «Только дома ли она? — забеспокоился Шефтл. — Что, если я ее не застану?»
Подойдя, он увидел, что окно ее комнаты открыто. Значит, дома.
В коридоре Шефтл остановился, чтобы перевести дух, и в эту минуту из комнаты донеслась залихватская, беззаботно веселая песня:
От неожиданности Шефтл постучал в дверь громче, чем хотел.
Патефон тотчас смолк. Дверь открылась, и Шефтл увидел перед собой молодую женщину в ярком платье с большим вырезом на груди, с подведенными глазами и густо накрашенным ртом.
— Вам кого? — кокетливо посмотрела она на Шефтла.
Шефтл ничего не мог понять. Неужели он ошибся?
Нет, дверь та…
— Я к товарищ Руднер, — проговорил он нерешительно, через плечо женщины заглядывая в комнату. Стены были увешаны коврами. Странно, комната совсем не та, не Элькина.
— Что же это вы нас беспокоите, — недовольно сказала женщина, — эта ваша… товарищ здесь уже не живет.
— А где? — испуганно спросил он.
— Откуда я знаю? — Женщина хотела уже закрыть дверь, но передумала. — Павлик, ты не знаешь, где она теперь живет, ну та, что здесь снимала?
— На Цыганской улице, там, где конский базар, — ответил из комнаты сытый мужской голос. — Во дворе, что против кузницы.
Шефтл повернулся и, не поблагодарив их, быстро ушел. Патефон в комнате снова лихо запел про самовар и про Машу.
Он побежал на Цыганскую улицу. Времени у него было в обрез.
Громкоговоритель на площади снова передавал сводку:
«В течение 20 июля продолжались напряженные бои на Псковском, Полоцко-Невельском, Смоленском и Новоград-Волынском направлениях».
На углу около летнего сада старушка приклеивала большую афишу:
Гастроли Запорожского театра
«Гибель эскадры»
«Почему она переехала? — думал встревоженный Шефтл. — Бог знает, что с ней тут было за эти три недели…»
Торопясь изо всех сил, он свернул на немощеную, пыльную Цыганскую улицу и вошел в тесный, неряшливый дворик напротив кузницы.
Среди детей, забравшихся в разбитый, поваленный па бок фаэтон, он увидел Светку и позвал ее. Девочка проворно выпрыгнула из фаэтона и подбежала к нему.
— Вы к нам пришли, а, дядя? — радостно обхватила она его обеими ручонками. — Мама только что ушла на мельницу. Вы знаете, где это? Это там, за рекой, далеко.
— Зачем она туда пошла?
— А мама работает там приемщицей, в ночную смену.
Шефтл хорошо знал старую мельницу. Развалина, державшаяся на честном слове, шум там стоял неописуемый и воздух был насквозь пропитан мучной пылью. Все же он вздохнул с облегчением. Хорошо, что работает. Это, конечно, не мед, но хорошо хоть так.
Идти на мельницу? Нет, не успеть ему. Ну что ж, ом хоть посмотрит, как они живут, какую комнату она теперь снимает. Через сенцы, превращенные в кухню, Светка ввела его в комнатку, где, стиснутая двумя стенами, стояла кровать, а рядом — столик и одна табуретка. Вот и вся мебель. На стене, напротив перекошенной узкой двери, висела фотография Алексея в красивей резной рамке.
Шефтл подошел ближе и с минуту смотрел на открытое, доброе лицо Элькиного мужа.
У двери стояла Светка в старых сандалиях, очень похожая на отца. Шефтл поднял ее, посадил на плечо, похлопал по ножкам, потом поставил на землю.
— Ну, — сказал он, открывая дверь, — скажи маме, что я заходил.
— Не уходите, дядя, — тихо попросила Светка.
— Надо, деточка, ничего не поделаешь.
— А вы сказали, что научите меня ездить верхом. И поросяток покажете. Помните?
— Помню, — смущенно кивнул Шефтл, — как не помнить… А ты обещала, что будешь слушаться маму…
— А я слушаюсь. Во что мне мама оставила на ужин, — девочка приподняла полотенце, которым была прикрыта тарелка. На тарелке лежали два ломтика хлеба, огурец и яйцо. — Только я еще не хочу есть, я потом поем, когда проголодаюсь.
— А от папы… от папы-то есть письма?
— Нет. Писем нету. Не пишет папа. Мама каждый день ждет почтальона, а почтальон не приносит. Нехороший, плохой почтальон
Шефтл наклонился, поцеловал ее и вышел. Светка побежала за ним.
— А вы еще придете?
— Приду, приду…
Пройдя с полсотни шагов, Шефтл оглянулся. Светка все еще стояла в воротах. Он махнул ей рукой, чтобы она возвращалась во двор.
Грустно ему было. Больно за Эльку, за ее девочку. Обидно, что он не мог прийти раньше. Чуть раньше — и он застал бы ее.
Темнело. Небо из голубого стало иссиня-серым. Шефтл зашагал быстрее. Он чувствовал, что устал, но не жалел потраченного времени. Эльку он, правда, не повидал, но все-таки кое-что узнал о ней, увидел ее ребенка. Надо было оставить записку. Ведь Элька понятия не имеет, что он уходит на фронт. Как это он не подумал!
Шефтл торопливо свернул на деревянный мост.
Вдруг он остановился. Здесь, на этом мосту, они тогда стояли с Элькой. На этом самом месте, около перил.
Как раз месяц тому назад, двадцать первого июня, в субботу вечером. Могли ли они знать, что их ждет…
Он коснулся рукой перил, словно прощаясь с Элькой.
А по мосту уже шагала рота солдат. Все в новом обмундировании, с винтовками за спиной. И вскоре грянула могучая песня:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой.
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война…
Шефтл зашагал в такт песне. Он спешил к своим. Скоро они сядут в поезд, который доставит их в воинскую часть.
В стороне, на дороге, ведущей к элеватору, громыхали возы с зерном, им навстречу, позвякивая, катились подводы, на которых развозили по колхозам эвакуированных. В кебе грозно прогремели, один за другим, несколько истребителей, а с железнодорожной станции донесся тревожный гудок паровоза.
Шефтл был уже недалеко от вокзала. Он шагал широко, а в ушах все еще звучали слеза песни:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война…
Глава первая
Ранним утром, когда Юдл Пискун еще лежал на верхних нарах в бараке, его вызвали в канцелярию лагеря и объявили, что он освобожден.
Начальник спецотдела, пожилой, флегматичный, видавший виды старшина, пожал Пискуну руку, поздравил и пожелал никогда сюда не возвращаться. Ему выдали справку и уже приготовленный для него билет на проезд в общем пассажирском вагоне до станции Гуляйполе и деньги. Денег было на семь суток пути — из расчета, что за неделю он доберется до дома.
Более шести лет Юдл Пискун с трепетом ждал этого дня. Порой ему даже не верилось, что день этот действительно когда-нибудь настанет. А когда в лагере узнали, что началась война, он и вовсе потерял надежду. Кто-то пустил слух, будто теперь, в военное время, никого не будут освобождать. Сосед Пискуна по нарам, еще молодой и крепкий мужик — его посадили за то, что он разбавлял вино, которое возил из колхоза на рынок, — даже радовался этому слуху, предпочитал перебыть войну здесь. Но Юдл Пискун не боялся фронта. Ему уже перевалило за пятьдесят, у него была двусторонняя грыжа, да и вообще его и в первую войну с Германией не взяли в армию, выдали белый билет, потому что он сызмальства сильно косил на левый глаз. По расчетам Юдла, срок его должен был выйти только черезполтора месяца. Оказалось, однако, что ему засчитали дни работы на кирпичном заводе.
Выйдя из бухгалтерии, Юдл вытер рукавом мокрое от пота, все в резких морщинах лицо и вынул из кармана справку. Он прочел ее несколько раз, слово за словом. Потом сложил вчетверо, старательно завернул бумажку в последнее письмо жены, засунул поглубже в нагрудный карман, пришитый к изнанке куртки, и побежал в барак, укладывать вещи, хранившиеся в изголовье.