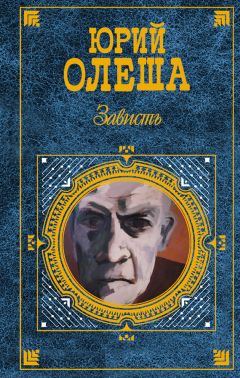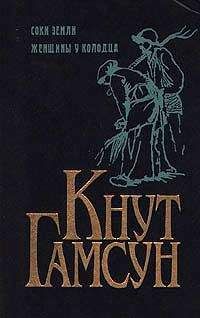Он пришел домой и лег.
Он предался игре воображения.
Таких женщин убивают.
Париж! Париж! Он воображал страшную сцену. То, чего не было. Драму. Конец драмы. Развязку событий, – обязательный, на его взгляд, результат Катиной красоты.
Убийство.
Она мечется по комнате. Падают стулья. С диким сверканием распахивается зеркальный шкаф. А тот, кто преследует ее, – он сам, старик, чей рассудок мутится от страсти, – стреляет в зеркало навылет. Шесть выстрелов. Осколки. Тишина. Он стоит посредине комнаты с ладонью на лбу. Розовые обои. Верчение пыли в солнечном столбе. И входят соседи. Видят старика в сединах. Благороднолобый, лучащийся, похожий на Тургенева старик.
Какой век? Какие годы? Где это? Не все ли равно! Любовь и смерть. Вечные законы пола.
Открывается шкаф. Вываливается боком и потом стукается головой о паркет тело.
– Пустите меня! – кричит старик и бросается к телу. Он воет, испускает мычание, глубокое «до» неутоленной страсти. Он кладет голову между раскинувшихся грудей девушки. Он поднимает глаза на обступивших его и говорит:
– Как чисто у нее здесь и прохладно в этот жаркий день.
Он поздним вечером говорит с ней по телефону.
– Катя, – говорит он, – я люблю вас. Смешно? Вы слушаете меня? Я спрашиваю: любовь старика – это смешит вас? Я не прошу о многом. Если вы – буря, то я мечтаю лишь о капле… Очень трудно говорить образно по телефону. Вы слушаете? Каждый день вы проводите с Цвиболом. Вечером сверкают звезды. Вы сидите с Цвиболом под звездами. Да, да, – я видел. Любовь, звезды… я понимаю. Знает ли Цвибол прекрасные имена звезд? Вега, Бетельгейзе, Арктур, Антарес, Альдебаран. Что вас смешит? Альдебаран, да? Я уже месяц целый мечтаю о том, чтобы пойти с вами в кинематограф. Но погода не благоприятствует мне. В летний вечер вы предпочитаете звезды. Что? Но ведь погода может испортиться. Техника еще не умеет управлять погодой. Отдайте Цвиболу синеву, реку, звезды, а мне оставьте дождь. Хорошо? Катя, я говорю по автомату. Меня торопят. Стучат в стекло, грязно кривляются. Итак, вот о чем прошу я вас… Вы слушаете? Если завтра погода испортится, пойдет дождь – согласны ли вы пойти со мной в кинематограф? Если звезд не будет?
– Хорошо. Если звезд не будет.
Утро было чистое, безоблачное.
Богемский стоял в проезде, где работали три машины «буффало». На одной ездил Цвибол в синей почерневшей майке.
– Жарко! – крикнул Богемский.
– Жарко! – ответил Цвибол.
Он, не выпуская руля, голым плечом стирал пот с виска. Было очень жарко. Вообще был ад. Жар свежей смолы, блеск медных частей, крик радио.
На панели стояли зеваки.
– Жарко! – еще раз крикнул Богемский.
– Жарко, – еще раз ответил Цвибол.
В перерыве Цвибол подошел к Богемскому покурить.
– Что вчера вечером делали? – спросил Богемский.
– Гулял.
– С Катей?
– Да.
– Где?
– Везде.
– Хороший вечер был?
– Да.
– Звезды?
– Да.
– А сегодня?
– Тоже гулять будем.
Вмешивается радио.
Радио. Обильные дожди прошли в Центральной черноземной области.
Богемский. Слышите?
Цвибол. Хорошо, что обильные.
Радио. Метеорологические данные дают основание ожидать выпадения осадков в Московской области в ближайшие дни.
Богемский. Слышите?
Цвибол. Хорошо, что в ближайшие.
Пауза.
Богемский. Может быть, и сегодня даже дождь выпадет.
Цвибол. Пожалуй, выпадет.
Богемский. И звезд не будет.
Цвибол. И вы в кино пойдете с Катей.
Богемский. И вы согласны уступить мне вечер в обществе девушки, которую вы любите, ради того чтобы пошел дождь?
Цвибол. Да.
Пауза.
Богемский. Дождь, который нужен республике и не нужен вашей любви.
Цвибол. Да. Дождь, который нужен республике.
Богемский. Браво! Дайте вашу руку. Я теперь начинаю понимать, что такое классовый подход к действительности.
И действительно, появилась туча.
Сперва появился ее лоб. Широкий лоб.
Это была лобастая туча. Она карабкалась откуда-то снизу. Это был увалень, смотревший исподлобья. Он выпростал огромные лапы, вытянул одну из них над Александровским вокзалом, помедлил, потом, поднявшись над городом до половины, повернулся спиной, оглянулся через плечо и стал валиться на спину.
Ливень продолжался два часа.
Затем был неудачный проблеск.
Затем – умеренный дождь.
Наступил вечер.
Звезд не было.
Дождь то появлялся, то исчезал.
Богемский купил два билета на предпоследний сеанс и стал ждать Катю у памятника Гоголя, как было условлено.
Она не пришла. Он ждал час и еще четверть часа. И потом еще четверть. Блестели лужи. Пахло овощами. В раскрытом окне играли на гитаре. Вспыхивали зарницы.
Он пришел в переулок, подошел к заветному дому. Здесь живет Катя. Он толкнул калитку подошвой. Он прошел по двору, оставляя в грязи следы, глубокие, как калоши. Обойдя флигель, он увидел темное окно. Нет дома.
Он вышел в переулок и стал ходить взад и вперед. Он остановился и стоял, закутавшись в пелерину, черный и пирамидальный, освещенный окнами, – как в иллюстрации.
Они появились из-за угла. Катя и Цвибол. Они шли обнявшись, как два гренадера.
Он вырос перед ними. Они разъединились.
– Вы обманули меня, Катя, – сказал Богемский.
– Нет, – ответила Катя.
– Дождь, – сказал Богемский.
– Дождь, – согласились они.
– Звезд не было, – сказал он.
– Звезды были.
– Неправда. Ни одной звезды.
– Мы видели звезды.
– Какие?
– Все.
– Арктур, – сказал Цвибол.
– Бетельгейзе, – сказала Катя.
– Антарес, – сказал Цвибол.
– Альдебаран, – сказала Катя и засмеялась.
– Мало того, – сказал Цвибол, – мы видели звезды южного неба. Это вам не Альдебаран. Мы видели Южный Крест…
– И Магеллановы Облака, – поддержала Катя.
– Несмотря на дождь, – сказал Цвибол.
– Я понимаю, – промычал Богемский.
– Мы были в планетарии, – сказал Цвибол.
– Техника, – вздохнула Катя.
– Шел дождь, нужный республике, – сказал Цвибол.
– И нам, – окончила Катя.
– И сверкали звезды, нужные нам, – сказал Цвибол.
– И республике, – сказала Катя.
1931
Старичок сел за стол, накрытый к завтраку. Стол был накрыт на одного. Стояли кофейник, молочник, стакан в подстаканнике с ослепительно горящей в солнечном луче ложечкой и блюдечко, на котором лежали два яйца.
Старичок, севши за стол, стал думать о том, о чем он думал всякий раз, когда садился утром за стол. Он думал о том, что его дочь Наташа плохо к нему относится. В чем это выражается? Хотя бы в том, что почему-то она считает необходимым, чтобы он завтракал один. Она, видите ли, его очень уважает, и поэтому ей кажется, что его жизнь должна быть обособленной.
– Ты известный профессор, и ты должен жить комфортабельно.
«Дура, – думает профессор, – какая она дура! Я должен завтракать один. И должен читать за завтраком газеты. Так ей взбрело в голову. Где она это видела? В кино? Вот дура».
Профессор взял яйцо, опустил его в серебряную рюмку и щелкнул ложечкой по матовой вершинке яйца. Его все раздражало. Конечно, он вспомнил о Колумбе, который что-то такое проделал с яйцом, и это его тоже разозлило.
– Наташа! – позвал он.
Наташи, разумеется, не было дома. Он решил поговорить с ней. «Я с ней поговорю». Он очень любил дочь. Что может быть лучше белого полотняного платья на девушке. Как блестят костяные пуговицы! Она вчера гладила платье. Выглаженное полотняное платье пахнет левкоем.
Позавтракав, старичок надел панаму, перебросил пальто через руку, взял трость и вышел из дому.
У крыльца его ждал автомобиль.
– Дмитрий Яковлевич… куда поедем? – спросил шофер. – Туда?
– Туда, – сказал профессор.
– Наталья Дмитриевна велела передать…
Шофер протянул профессору конвертик. Поехали. Профессор, подпрыгивая на подушках, читал письмо:
«Не сердись, не сердись, не сердись. Я побежала на свидание. Не сердись, слышишь? Штейн очень хороший парень. Он тебе понравится. Я его тебе покажу. Не сердишься? Нет? Ты завтракал? Целую. Вернусь вечером. Сегодня выходной, ты обедаешь у Шатуновских, так что я свободна».
– В чем дело, Коля? – спросил вдруг профессор шофера. Тот оглянулся.
– Вы, кажется, смеетесь?
Ему показалось, что шофер смеется. Но лицо шофера было серьезно. Однако это не снимало подозрения, что шофер смеялся в душе. Профессор считал, что шофер в заговоре с Наташей. Франт. Носит какие-то удивительные – цвета осы – фуфайки. Он называет меня «Мой старик». Я знаю, что он сейчас думает: «Мой старик не в духе».
Автомобиль ехал по загородной дороге. Навстречу неслись цветущие деревья, изгороди, прохожие.
«Она мне покажет Штейна, – думал профессор. – Штейн хороший парень. Хорошо, посмотрим. Я ей сегодня скажу: „Покажи мне Штейна“».