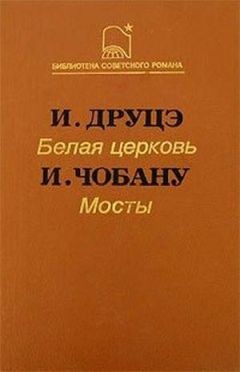— Есть все-таки прок и от этой проволоки! — усмехнулся дед, кивнув на радиоантенну. — Прости, батюшка, не думал дожить до этого времени. В молодости мы с твоим отцом вместе за девушками ухаживали. Тогда разница между попом и мирянином была не такая, беш-майор! Я твоему отцу, Федору, много услуг оказывал, да будет земля ему пухом. Человек он был не хуже меня. Любил вино, и попадья не раз отнимала у него ключи от погреба, чисто моя баба. То-то были времена! Ведрами пили вино. Пили, разливали, а еще оставалось. Стояли полные бочки прямо на винограднике. Сегодня ты пройдешь мимо моей бочки — пей на здоровье, сколько душе угодно. Завтра я мимо твоей, отведаю глоток, другой. И корчмы были — не теперешние. Уплатишь, сколько надо, и пей, сколько выпьешь, никто не отмеривает. Теперь старуха запирает на замок погреб, а мне что делать — хоть прыгай с досады, ей дела нет, коровья образина!..
По дедушкиным словам выходило, что некогда рай помещался на земле, и было это в годы его молодости. Но сдается мне, что не из-за чудодейственного вина край наш казался ему землей обетованной. Попросту так уж человек устроен: у каждого своя молодость, когда он ничем не болеет и любая еда на пользу, когда он не считает оставшиеся дни, живет вольготно, без оглядки. Ведь и в дедушкином раю случались засушливые годы, и мужики вспахивали и засевали проселочные дороги, чтоб хоть к будущему году наскрести семена. И в том же раю солнце тонуло в тучах саранчи. Стар и млад поднимались на битву: жгли костры, копали канавы на ее пути. Но зеленые тучи наплывали, затмевая солнце. Скот подыхал с голоду. Умирали люди. Бурьяна — и то не увидишь, все будто выгорело. Высохли леса. Только рыбам посчастливилось: они одни и выжили.
А потом хлынул ливень. Настоящий потоп. Виноградники и поля захлебывались, каждая долина превратилась в озеро, и на его поверхности, слоем толщиной в вершок, плавала саранча. Бурлящие ручьи уносили ее в море, на прокорм рыбам.
Вспоминая молодость, дедушка забывал о многом. И о нашествии саранчи, и о тифозных эпидемиях в годы войн. В памяти оставались только бочки первача, кусты «рара-нягрэ», «муската», «изабеллы». Бочки были такие огромные, что впритирку к ним могла развернуться телега с волами.
Я бы напомнил дедушке кое-что о том рае, но дедушка задирист и горяч. Еще придерется:
— Ты, дьявольское семя, будешь меня вруном делать! Ты меня станешь учить?!
И кинется за мной, вооруженный палкой от решета. Тогда держись! Придется драпать самым постыдным образом, хотя на губе у меня уже пушок, а по вечерам я ухаживаю за девушками.
В тот вечер я привел деда, изрядно подвыпившего у попа. Батюшка Устурой явил свою щедрость. Я боялся, что вообще не смогу вытащить дедушку домой. Много лет назад, здесь же, у попа, дед провеивал пшеницу и вернулся домой с поврежденной ключицей. Выпили на славу, и дед оступился на завалинке. С тех пор он не мог причесаться, не мог поднять руку и поднести к затылку, не мог перекреститься…
— Что тебе дать, Василе, хлеба или калача?
— Можно и калач… Он тоже лицо Христово.
— Хорошо, Василикэ.
Искорки шипучего белого вина прыгали и гасли на заскорузлой руке Негарэ.
Бадя Василе что-то долго держал стакан в руке. Отец снял суман, ловко накинул на обеих лошадей. Поторопил:
— Ну, давай, Василе, пей! Не держи долго монаха в гостях. Пей! Жевать будем в дороге.
— О-ха-ха! — раскатисто, по-пастушески хохотал Василе.
— Будем здоровы, сосед! — поклонился Негарэ и отцу. — Сколько жить будем, чтобы слышали друг о друге только хорошее.
Куда уж лучше, чем теперь! Негарэ и не снилось, что он так разживется. Даже тогда, когда цыгане предсказали ему богатство и обобрали. Но человек и от добра ищет добра… как ненасытная коза!
Тяжелые, окутанные паром поезда мчались на восток. На платформах стояли пушки, танки. Солдаты ехали даже на крышах вагонов.
Назад поезда привозили раненых и убитых. Поля вдоль железнодорожной колеи долго еще пахли после этого камфорой и гноем. Было когда-то и другое время, поезда пахли пшеницей… советской пшеницей, которую везли в Германию.
Теперь картошка Негарэ была в чести. Ее покупали, как свежий хлеб. Известное дело, картошка не даст умереть с голодухи.
В разгар зимней стужи Негарэ открывал яму с картофелем, нагружал сани, вез на базар и драл втридорога. Мы с Митрей помогали нагружать. Отбирали картошку. Приносили солому, чтобы укутать мешки.
— Слушай, Митря, кто лазил в эту яму? Так-то ты караулишь картошку?
— Никто не лазил, тебе показалось.
— Смотри у меня, Митря, поплатишься.
Сани уехали. Мы с Митрей шли в землянку.
Вокруг стоял немой заиндевелый лес. А в землянке тепло, уютно.
— Посмотрел бы ты, как прибегают зайцы из леса. Чуть смеркнется, ветер уляжется, они уже тут как тут. За картошкой! Я им специально оставляю несколько штук. Погрызут, потом лапками ковыряют в зубах. Умора! Думают, что никто их не видит. Подбегают почти к самой землянке. И милуются с зайчихами. А в феврале у них приплод. Самые прыткие зайцы рождаются в феврале.
— Значит, подкармливаешь зайцев картошкой? Отец догадался, что лазишь в яму…
— Ты, Фрунзэ, умеешь беречь секреты? — Митря пристально посмотрел мне в глаза.
— Очень.
— Видишь этот пистолет? Угадай: откуда?
— Откуда?
— От партизан.
— Что, что?
— Глухому семь раз обедню не служат.
— Не валяй дурака.
— Смотри у меня, проговоришься…
— А если отец застукает?
— Застукает, тогда плохо. А вдруг обойдется… Видел я троих русских в белых полушубках… И несколько комсомольцев из Бравичей. Девушка одна была с ними. Лицом белей городского неба.
В девушках Митря знал толк. По этой части глаз у него наметан. Такого бабьего угодника поискать! Никогда не пройдет мимо девушки, чтобы не задеть, не ущипнуть, не обнять. Митре и умывать лицо незачем было: в него плевали девушки.
От такого повесы всего можно было ждать. Он мог продать налево несколько мешков картошки. Нанять на эти деньги музыкантов. Растранжирить на папиросы. Мог выдумать, что отдал партизанам, а на самом деле отнести какой-нибудь вдове, чтобы там погреться.
В новогоднюю ночь партизаны подожгли банковские склады, камеру агриколэ. Одновременно с нескольких сторон. Горела конопля, горели камышовые кровли. И никто не мог подступиться: пшеница и соя стреляли, подобно пушечной картечи, во все стороны.
На следующий день Митря зашел ко мне. Он покачивался и тараторил колядку:
— Живите, цветите… как яблони, как груши…
В согласии с обычаем посыпал нас пшеницей, пожелал хорошего года, потом сделал мне знак следовать за ним.
— Что скажешь? Красивый был костер?
Митря смеялся над шефом жандармского поста. Нагнали на него страху партизаны. Теперь господин Викол боялся двух вещей: что попадет в руки партизан или что его переведут на Украину, а это все равно что смертная казнь. От партизан шеф надежно забаррикадировался: еженощно караульную службу возле жандармского поста несли шестнадцать мужиков и три подводы с хорошими конями. Сельчане обязаны были являться с железными вилами и сидеть в засаде, где им будет приказано. Трое жандармов, составлявшие гарнизон поста, тоже дежурили всю ночь. На кухне. Все пошло шиворот-навыворот. Ночи стали днями, дни — ночами. Много лиха хлебнули люди. Не спали в своих постелях. Словно много навоюешь железными вилами в потемках!
После Нового года в Кукоару прибыл странный взвод. Майор, несколько младших офицеров, все остальные — капралы и сержанты.
Шеф поста был на седьмом небе от радости. Армия остается армией. Следом за взводом прибыло снаряжение. Два трофейных русских пулемета. Три подводы, нагруженные советскими винтовками и множеством патронов.
— Эй, Шкварка! — рявкнул майор на шефа поста.
— Слушаюсь, господин майор!
— Расквартируй мне этих ребят в хороших домах. А то получишь чертей… Ну, живо!
— Слушаюсь, господин майор!
Майор был из фронтовиков. Трижды ранен, судя по желтым нашивкам на рукаве. И по явной хромоте. Настоящий герой. Уж он-то понюхал пороху. Плутоньер знал: иначе чем Шкваркой и Губошлепом его величать не будут. Ни в какой армии, наверно, не благоволят к жандармерии. Для всех жандарм остается жандармом.
— Слушай-ка, шеф, ты грамотный?
— Так точно, господин майор. Окончил школу младших офицеров.
— К черту школу. Я сюда прибыл муштровать мужиков. Ты должен помогать мне. С должным рвением.
После этих слов майор даже не ответил на приветствие шефа. На дороге ждал выстроенный взвод. Офицеры стояли во главе строя и ждали команды.
— Взвод, смирно! — распорядился майор. — С песней шагом марш!
Они направились к церкви. Там как раз освящали воду.