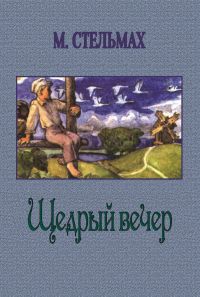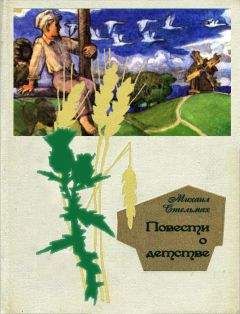— Теперь, Михайлик, уже недалеко. Не замерз?
— Не замерз.
— Все равно немного пробежимся.
И мы бежали взапуски с дядей Себастьяном, он перехватывал меня, подбрасывал вверх и ловил, как мяч, а умный конь искоса посматривал улыбающимся глазом и сам догонял нас.
Вот и Майдан — Треповский, и река Гарь, и крутояры, и глинистые красные холмы, обросшие хатами–белянками. Мы въезжаем на школьный двор, где яснеет большими окнами двухэтажная, красного кирпича школа. Во дворе сейчас тихо (школьнике разъехались по домам), и только голуби воркуют на тепло.
С боязнью и радостью я поднимаюсь протертыми металлическими ступенями на второй этаж. Вот дядька Себастьян останавливается у высоких дверей и осторожно стучит кулаком.
— Заходите, заходите!
Мы переступаем порог просторной комнаты, здороваемся с немолодым в очках мужчиной, седые волосы которого легли на плечи. Дядька Себастьян идет к нему, а я, как заказанный, прирос к полу: против меня и по правую сторону, и налево стоят огромные дубовые шкафы, а из них сквозь стекло видны тысячи книг. Их, небось, и на десяти телегах не вместил бы! Сперва я не поверил, что столько можно собрать книжек в одном месте. Куда там поповской библиотеке! Есть же такие счастливцы, что имеют доступ к этому добру. Пока я вбираю в глаза корешки книг, ко мне подходят и дядька Себастьян, и заведующий библиотекой.
— Это, Михайлик, учитель Дмитрий Анисимович, — знакомит меня председатель комбеда.
— Спасибо, — невпопад говорю я и так выминаю шапку в руках, что с нее летит шерсть.
Дмитрий Анисимович только переглянулся с дядей Себастьяном и кротко заговорил ко мне:
— Наша библиотека, Михаил, выдает на дом только по две книги. Какие тебе нужны? Или выберешь сам?
— Я сам, — прикидываю, что надо выбрать две самые толстые книги. Дмитрий Анисимович растворяет дверцы шкафов, а я рыщу глазами по толстым книгам. Вот, кажется, можно взять эту в черном переплете.
— Выпишите, если можно, ее.
Дмитрий Анисимович, улыбаясь, подает мне пьесы Шекспира и говорит:
— Тебе еще рановато браться за эту книгу, хотя ее написал лучший драматург мира.
— Чего рановато? — бормочу себе под нос. — Я очень люблю читать пьесы.
— Оно и хорошо; у меня таких читателей немного. Но эти пьесы будешь учить лет через шесть–семь.
— А в них стрельба есть?
— Что–что? — становятся круглыми серые глаза учителя.
— Спрашиваю, или бьются, или стреляют в этих пьесах?
— Ага! — понял меня наконец Дмитрий Анисимович и пустил улыбку по усам и в очки. — Бьются здесь не на жизнь, а насмерть, но не стреляют, — тогда еще как будто и пороха не было.
— Тогда я возьму ее, — люблю, когда бьются, — неловко оправдываюсь перед учителем.
— Ну, если так настаиваешь, бери! — вручает мне толстенную книгу Дмитрий Анисимович. — Только одно условие: потом расскажешь, о чем здесь пишется.
— Согласен.
— Какую же тебе еще подобрать? Не эту ли? — показал учитель на одну из самых толстых книг в полотняных переплетах. По всему видно было, что он сразу понял мой вкус.
— Можно и эту, — беру в руки произведения Мамина — Сибиряка. Дядька Себастьян тоже выбрал себе книги, правда, не такие толстые, как я. Мы поблагодарили Дмитрия Анисимовича, а он на прощание и говорит;
— Ты же как закончишь свою школу, приезжай учиться к нам. Я дам тебе все книги прочитать.
— Спасибо, спасибо, Дмитрий Анисимович, — кланяюсь старому учителю, а он кладет мне на голову пропахшую книгами руку и мигает веками…
Как радостно было теперь упасть в сани! Книга приятно холодила пальцы, и короли, и рыцари выходили из нее, и бились, и падали тут, в снегах, где пахла примерзшая калина, где ветряные мельницы бились с полумглой и призывали к себе добрых людей молотить на хлеб.
— Михайлик, глаза попортишь! — кричал на меня дядька Себастьян. Я улыбался ему, закрывал книгу, но через минутку снова разворачивал ее, чтобы хоть взглянуть на чудовищ, зачем–то закованных в железо.
И изморозью, и дымами, и разбросанными огоньками, и звездами встречает нас заснеженное село. Вот у дороги заскрипел журавль, а за дорогой отозвалась щедривка:
Щедрий вечiр, добрий вечiр,
Добрим людям на весь вечiр.
— Спасибо, деточки, что защедровали нашей хате и нам… — шелестит женский голос.
А вон у ставка запели сами девушки:
Щедрик, щедрик, щедрiвочка,
Прилетiла ластiвочка…
Я сразу узнаю Любин голос, привстаю на санях и кричу через ставок:
— Люба, не простуди голос!
От ставка слышится сначала смех, потом кто–то отделяется от компании и изо всех сил летит к нам.
— Михайлик, пирожок хочешь? — высмеивается Люба, падает на сани и подает мне выщедрованный пирожок.
— А я тебе калины привез, бери.
— Дядя Себастьян, а вы не хотите пирожок? Он еще теплый.
— Если теплый, то что же… — поворачивается к нам, смешно разводит руками дядька Себастьян. А Люба уже весело стрекочет мне:
— Михайлик, а дядька Николай и твой отец уже вернулись домой!
— И что–то поймали?
— Несколько щук и целую сумку вьюнов. Дядька Николай говорил, что они тащили–тащили и никак не могли вытащить вдвоем одну щуку, — такая большая попалась. Глаза у нее были, как горшочки, а чешуя — как серебряные рубли.
И нам всем почему–то становится даже очень смешно. Тем временем нас настигают легонькие санки, на передке которых сидит молодой коренастый мужичонка, за ним покачивается и тихонько что–то напевает ребенку молодица. Чем–то знакомым–знакомым повеяло на меня. Молодица оборачивается на наш смех, и я, веря и не веря, вскрикиваю:
— Марьяна!
— Ой! Михайлик! — взволнованно крикнула молодица и зачем–то переспросила: — Это ты?
— Конечно, Марьяна! — соскакиваю с саней, приближаюсь к ней и вижу перед собой большие–большие глаза, над которыми испуганно бьются венчики ресниц.
— Ой! Михайлик! Как ты вырос! — Марьяна одной рукой держит ребенка, а другой обнимает меня. — А мы едем к вам на щедрый вечер.
— В самом деле?
— В самом деле. Добрый вечер, Люба! Добрый вечер, дядя Себастьян! Вы до сих пор председательствуете?
— Да председательствую.
— И мой тоже. Имею теперь хлопоты на свою голову.
Дядька Себастьян наклонился к уху Марьяны:
— А он и сейчас тебя звездочкой зовет или, председательствуя, забыл?
— Ну… такое скажете, — застеснялась Марьяна.
— Говори, говори.
— Зовет же… когда надо подластиться, — влюбленно смотрит на своего мужа, а тот лишь ведет могучим плечом и расцветает в доброй спокойной улыбке исполина.
— Тетушка, а у вас девочка или мальчик нашелся? — уже припадает к ребенку Люба и что–то гукает ему.
— Мальчик… — и так хорошо сказала, наклоняясь к нему: — Растет себе дитя!
— Едем же к нам! — приглашаю и гостей, и дядьку Себастьяна, и Любу. — У нас и рыба свежая есть!
— Если свежая, то наверное, придется поехать, — весело жмурится дядька Себастьян и вожжами разбивает на коне изморозь.
И снова запели санки, и спросонок вздохнул, запел лед на ставке, и загукало возле груди матери дитя. А над нами мерцают и не падают звезды, а впереди нас выхватываются и выхватываются тихие огоньки, а возле них отзываются голоса щедрующих:
Щедрий вечiр, добрий вечiр,
Добрим людям на весь вечiр…
И хорошо, и удивительно, и радостно становится мне, малому, в этом мире, где есть звезды, и добрые люди, и тихие огоньки, и щедрые вечера…
Киев — Ирпень — Дяковцы
1966
© Овсянникова Л. Б., перевод с украинского, 2014
Дядина — жена дядьки.
Снопки — связанные пучки соломы, которыми крыли хату.
Живкун — пичуга.
Ярина — овощи.
Мавка — дух леса, деревьев.
Скрипица — условно–съедобный гриб рода Млечник; в простонародье он называется молочай, скрипун, скрипуха.
Моргуха — (моргунья, моргасья) вертихвостка, жеманница.
Порички — красная смородина.
Стависко — место, где когда–то был ставок; дно бывшего ставка (возможно, заливные луга).
Кирея — длинная верхняя одежда с капюшоном, изготовленная из сукна; кобеняк, плащ.