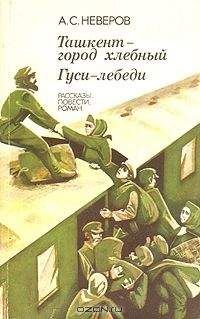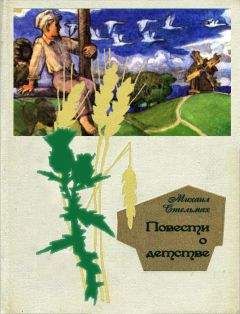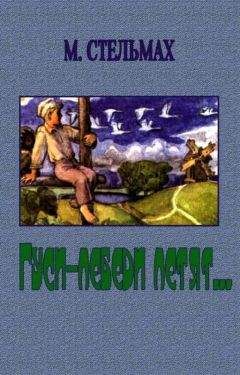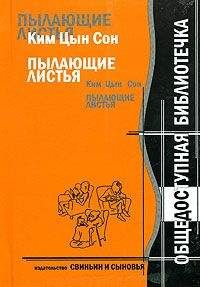Матвей Старосельцев крутил головой:
- Кому же, Иван Силантич, идти на такую облаву? Во-первых, оружью надо хорошую иметь, а во-вторых, и драться придется по-настоящему. Ты скажешь - старый, нельзя тебе идти, а я скажу - хозяйство не на кого бросить. Я ведь знаю эту игрушку, куда она потянется, если бытным делом приниматься за нее.
- Чего же теперь?
- Давайте покалякаем.
- А чего калякать-то? - кричали мужики. - Калякай не калякай, все равно пойдешь раскорякой. Разве можно изловить каждого человека. Мы глядим с одной стороны, а на нас глядят со всех сторон.
- Ну, куда же теперь кидаться? В воду, что ли, от такого дождя?
Калякали долго.
Грудились кучами, растекались поодиночке, наглухо запирали ворота. Пробовали замки на амбарах, тревожно поглядывали в степь и все-таки ничего не могли придумать. Степь давила страхом, высасывала сердце тревогой. Кто-то невидимый ходил около изб, жутко заглядывал в окна, протягивая длинные руки, хватал мужиков за всклокоченные головы. Дико выли собаки, тревожно похрапывали лошади. В полночь мычали коровы, не вовремя пели петухи. Бабы видели крест над селом, а с креста этого капала кровь, и два раза над Заливановом проносилась мятущаяся звезда с огромным хвостом, и сам собой тихо гудел старый колокол на низенькой заливановской колокольне. Никанор с дьяком приделали новые запорки в сенях, Алексей Перекатов повесил новый замок на амбарных дверях, и вся жизнь казалась протыканной гвоздями, замкнутой на сотни запорок, но страх, сжимающий сердце, просачивался в каждую трещину, и от него старик Петраков даже перестал молиться богу перед обедом и ужином. Каждый час, каждую минуту перед глазами у него стояла новая деревянная лопата, украденная большевиками, и каждый час, каждую минуту думалось, что могут украсть сердечник, веревку, топор, по прутику растащить всю петраковскую жизнь, с таким грехом построенную, и выкинуть самого Петракова из этой годами сколоченной жизни.
Опять появился бродячий монах в серой поповской рясе, подпоясанный обрывком веревки; длинноносый, бронзовый, с жесткими волосами на острой голове, вошел он в Заливаново тихими неслышными шагами, как страшное знамение Согрешившему народу, и началась по встревоженным избам неуемная проповедь.
- Всякое животное умнее человека, - говорил монах, - и всякая тварь понимает пришествие отца и сына, но человек не разумеет дела, подобные господу. В пояснение мысли нашей скажем - лошадь, значит, конь. Она не говорит, а ржет. Увидит хозяина и ржет, и хозяин смыслит ржание ее. Или таракан, когда бежит из избы, и тут глубокое знамение разумеющему сердцем. Даже таракан, вещество растущее, имеет смысл. Ибо сказано в писании: произрастет корень, от которого люди мои осквернятся духом, а теперь народ ищет свободы, подобной табаку, отравляющему божественную суть...
Монах навертывал дикие несуразные мысли, покоряя слушателей тяжелым взглядом мрачных глаз, а мужики с бабами смотрели ему на босые ноги с длинными черными ногтями, на туго перевязанную сумку за спиной, слушали, ничего не понимая. Но чем больше было непонятного в нелепо нагроможденных словах, тем сильнее хотелось верить в них, тем испуганнее колотилось сердце в предчувствии грядущей беды...
И опять говорил монах, ударяя суковатой палкой в землю...
- "Созижду церковь мою, и врата адовы не разрушат ее, - сказал господь. - И дам тебе ключи". Понимаете? Тут надо иметь особое разумение, потому что ключи эти от сердца нашего к разуму, от бога отца к богу сыну и его святому духу, который поразит противников и не даст надругательства дьяволу...
Днем монаха кормили по избам, покупали у него крестики, божественные листики о кончине земного царствия, а вечером били смертным боем в избе у Орешкина. Монах, напоив Орешкина пьяным, подобрался к Орешкиной бабе, начал исцелять у нее "в грудях". Уже положил на кровать в сенях, чтобы особой молитвой выгнать бабью хворь из немощного тела, но тут проснулся пьяный Орешкин, грохнул пьяного монаха на пол, сел верхом на него и, захватив в один кулак длинные волосы, другим бил по зубам...
Вечером упаковский мужик привез в Заливаново на телеге под рогожкой убитого чеха и предписание заливановским властям немедленно отправить убитого дальше. Чех лежал без штанов и рубашки, запорошенный соломкой, и сквозь соломку утомленно смотрел черным разинутым ртом, набитым мухами. Один глаз был закрыт, другой - с мертвым упреком глядел в далекую родину. На груди, пониже левого соска, зияла большая поротая рана, с отвалившимися кусками почерневшего мяса, испускающего тошный приторный запах.
Подходили бабы, мужики, ребята, девки, отворачивали рогожу, с ужасом заглядывая в черный разинутый рот, тихонько плевались. И только Знобова старуха горько плакала над убитым, вспоминая двоих сыновей, набожно закрыла ему мертвый глаз, крестом на груди сложила холодные неповинующиеся руки.
Около волостной земской управы собрались фронтовые солдаты, двое гласных, сам председатель управы Николай Горюнов и новый милицейский Никишка Панкратов. Чеха положили пока под сарай на волостном дворе в ожидании подводы, чтобы отправить дальше, а Горюнов, обращаясь к фронтовым солдатам, начал говорить речь об Учредительном собрании, о тайном и равном голосовании всего русского народа, ибо большевики, подкуплены немцами и надеяться на них никак невозможно.
- Граждане, если мы не возьмемся за оружие и не поддержим земельную программу социалистов-революционеров, может получиться большое разорение.
Но тут к председателю Горюнову прибежал со двора волостной сторож Никачаев, громко закричал, перебивая речь:
- Вот, чертова свинья, всего чеха чуть не съела!
Горюнов расстроился.
Жизнь, крепко налаженная, с каждым часом разваливалась на мелкие кусочки, и склеить ее не было силы. Бешено прискакал курносый Милок верхом на своей кобылке, молодецки спрыгнул у крыльца, испуганно крикнул:
- В Ливенках чехов разбили!.. Все село поднялось!.. От Уральска казаки двигаются...
Большевики, гонимые чехами, вдруг преобразились в сознании бедноты, как люди, несущие новую правду, и говорили о них с теплым вздохом:
- Шибко орудуют ребята!
- Эти не поддадутся, на ножи полезут...
- Как же им поддаваться, если такая программа у них?..
В серой городской рубашке, высоко подпоясанной черной лентой, выступил Алексей Перекатов - умница, "золотая голова", строго и веско сказал мужикам, толпившимся около волостной земской управы:
- Что мы теперь думаем делать? У нас имеется приказ членов самарского комитета Учредительного собрания о мобилизации в народную армию для борьбы с преступными элементами, нарушающими свободу и порядок в стране, а мобилизованные наши, подлежащие отправке, спокойно сидят по домам. Хотим иль не хотим мы поддерживать Учредительное собрание?
Задние крикнули:
- К черту!
- Значит, погибнуть должна наша Россия?
- Ну, и черт с ней, пускай погибает, своя башка дороже...
- Кто это там произносит?
Наступила тишина.
Уже никто не произносил, но глаза у всех горели враждебным огнем, мрачно двигались скулы, потаенно сжимались кулаки. Новая бойня на родных полях со своими мужиками, которых знали в лицо, казалась невозможной, ошеломляющей...
После Перекатова вылез на крыльцо управы Суров-отец, подкрепив себя кружечкой самогонки, и весело, дружелюбно заговорил, бросая в толпу мягкие, тревогой налитые слова:
- Слушайте мою речь! Я, к примеру, скажу вам немного. Ежели мы не будем подчиняться властям - нас расстреляют. А ежели будем жить недружно - останемся без лошадей. Почему в нашем селе такой порядок? Все идут на подмогу, а мы не хотим. Вот поэтому, к примеру сказать, и глядим мы в разные стороны и нет промежду нами согласья, как у прочих сел. Правильно я говорю?
Но и ему крикнули в ответ:
- Воюй иди!
- А вы не будете?
- Не за что!
Спорила каждая улица, каждая изба, у всех болели головы от долгого крика, и никто не мог понять, какая сила двигается на них и кто посылает ее. Бранили большевиков, злобной матерщиной накаливали чехов, самарских комитетчиков, купцов, помещиков, кадетов, и все эти люди, посылающие мужиков на войну, свертывались в огромный многоголовый клубок, и страшный уродливый клубок не давал покою. Каждая голова высматривала своими глазами, нащупывала своими руками, и негде было спрятаться, негде было скрыться от надвигающегося ужаса. Каждая пядь родной земли казалась разгороженной на тысячи клеток, друг другу враждебных, и в каждой клетке таилась мужицкая западня, мужицкая смерть. Страшно было ходить по этим клеткам, и никто не знал, куда наступить, какой стороны держаться. Никому не хотелось воевать, позывало к миру, отдыху, к тихой, спокойной жизни после многолетнего германского фронта, но самарский комитет Учредительного собрания от имени "всего народа", от имени попранных большевиками прав, призывал на защиту демократической республики, на защиту земли и воли. В комитете сидели социалисты-революционеры, а социалисты-революционеры всю жизнь боролись с царским правительством, шли на каторгу, в ссылку, томились по тюрьмам за народ, за мужика, за крестьянина. И теперь своими воззваниями, газетами, приказами они кричали в мирно настроенную, трудовую черноземную степь: