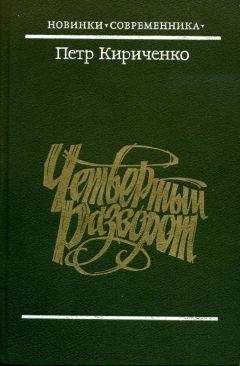— Да, — говорю, — многое. А вы его как величаете?
— Да как, — отвечает. — Тоже по-разному... Но я его жалею, ласково называю. Правда, бывает другой раз, что выведет меня из себя или под горячую руку попадет, то и прикрикну. Не без этого, но это редко, а если что, то я строгая, он сразу чувствует. Бывало, соберется, думает — я не вижу. А я-то все вижу и так спокойненько спрошу: «Ты куда это, Колька, настроился?!»
Она так сказала, будто муж ее был в этом домике, на локте приподнялась и засмеялась. Смех у нее чистый, звонкий, а я и дышать перестал. Тихо так лежу, молчу! Она тоже молчит, и слышно, как доски от мороза потрескивают. Вздохнула она и тихо говорит:
— Холодно все же, не уснуть...
Вроде бы и не мне сказала, а просто так, задумавшись. И еще вздохнула, а я лежу, пошевелиться боюсь. И такое меня отчаянье взяло, понял я и жизнь ее хорошую, которую она так расписывала, и любовь, которой нет да, наверное, и не было, и соседку... Бедная ты, Лиза, думаю, бедная, и понимаю, ждет она. Можно было, конечно, отмолчаться, уснул вроде бы... Не смог!
— Возьмите, — говорю ей, — мою шубу.
— Нет, — отвечает тихо. — Не надо!
Услышал я, как дрогнул ее голос, и подумалось, не скажет теперь ни слова — уснет, обидевшись, но она поворочалась и просит подать ей чаю. И так ей тяжело было это говорить, что даже заикнулась, пока сказала. Встал я, подал ей холодный чай... Она стакан взяла, глоток отхлебнула и на меня смотрит, а стакан не отдает. Я тоже на нее гляжу, в самые глаза, а они темные, глубокие, и не знаю, чего уж больше было — страху или желания?.. Гляжу я на ее лицо, на черные волосы на белой подушке, на тонкую шею; и до того она вдруг прекрасной мне увиделась, что даже не поверилось. Стакан в ее руке задрожал, я отобрал его и... Эх, Георгий! Что я тогда увидел в ее глазах, то не рассказать, но, когда движок загорелся, я вот это и вспомнил. Сначала мне Данилов в голову кинулся, помнишь, у него тоже двигатель горел?.. И подумалось: «Эх, жизнь ты наша! Имеем — не ценим...» И вроде бы лихорадка на меня напала, потому что Данилов...
— Летал я с ним, — со вздохом сказал Ступишин.
— А как вспомнил ночь в Теберде, звездный свет и ее белое лицо, спокойствие пришло необычайное. Вроде бы я и не сам лечу, а со стороны гляжу. Механик бубнит: «Закрылки! Закрылки!» Штурман говорит: «Скорость велика». А двигатель горит, три системы отработали, а ему хоть бы что. Впереди — четвертый разворот, а для нас, сам знаешь, нет ничего важнее: как выполнишь, так и по прямой пойдешь, и посадка от него зависит, и жизнь. Да хоть бы время подумать, а то ведь — секунды. Тогда я и сказал: «Ничего, ребята, трогать не надо! Садимся как есть!» Так и сели... А ты говоришь, часы...
— Да часы-то ладно, — сказал Ступишин. — А с женщиной-то как?.. Не понял...
— Утром я поехал дальше в горы, а она пошла, — ответил весело Игнатьев. — Так и расстались.
— Гм!.. Однако... — недовольно хмыкнул Ступишин. — А ну-ка налей, а то я что-то в толк не возьму, зачем ты мне это рассказывал.
— Да я и сам не знаю, — ответил Игнатьев, кивнул на бутылку и добавил: — Пьянствуем мы с тобою, пьянствуем, а еще и половину не осилили.
— В жизни оно так и бывает, — неторопливо сказал Ступишин, — что разбитый на полосе фонарь дороже денег окажется — это понятно, но вот ты не досказал до конца...
— А больше ничего и не было, — ответил Игнатьев неохотно. — Добрался до турлагеря, поглядел на горы, на снег да на пихты. Красота там, ничего не скажешь: нарзан течет, пей сколько хочешь, в речке вода курлычет, а валуны в ней стоят под снежными шапками. Конечно, — Игнатьев вздохнул, примолк на секунду, будто раздумывая, говорить или не говорить, и продолжал: — Подумалось мне после той ночи, что жить надо хорошо, мудро, что ли... Не знаю, но как-то не так, как жил до этого. А через час вошел я в такой же домик — окно, стол, три кровати, да еще и лыж мне не досталось... Забыл я обо всей мудрости, забегал, к инструктору подкатил, и появились у меня лыжи. На кой они мне были... Но именно лыжи, беготня вот эта и заставили меня после подумать, что жизнь наша состоит, как ни говори, из мелких мыслей, таких же страстей и лишь иногда проступает в нас то, что, вероятно, должно быть всегда. И вот тогда увидишь каким-то другим небо, своего брата человека, а главное, появятся силы надеяться и жить дальше. Теперь понятно?!
— И теперь не понятно, — честно сказал Ступишин, — но теперь кое-какие мысли появились.
— Ну и прекрасно! — воскликнул Игнатьев. — Больше-то ничего и не надо!
Ступишин долго молчал, а потом так же долго смотрел на задумавшегося товарища и, когда их глаза встретились, спросил, кивнув головой в глубину квартиры:
— Она?!
Игнатьев грустно улыбнулся и не сразу ответил.
До знакомой поляны у ручья добрался я под вечер, но солнце стояло довольно высоко над кронами деревьев, скупо согревая пожухлую траву, сосны, березы, две стройные ели с одинаково ровными верхушками. В преддверии белых северных ночей заход солнца все больше отступал, садилось оно медлительно, как бы с неохотой. Небо сияло чистотой, синело, и закат должен был прийти ровный и долгий. В сумерки потянут над полянами вальдшнепы, призывно хоркая и выискивая в траве подруг. До этого заветного времени было еще долго, и я первым делом разложил небольшой костер, подвесил мятый котелок с пятью картошинами и, поджидая, пока закипит вода, сидел на березовом чурбаке и наслаждался одиночеством, лесной тишиной и мыслями о том, что наконец-то выбрался сюда, на поляну, и вижу знакомые деревья, старое кострище, ручей, тихо курлыкающий в низинке.
Знал я это место давно: несколько лет назад брел по лесу с ружьем, пробирался заросшей просекой и, наткнувшись на поляну, остановился, пораженный красотой, чистотой и нетронутостью леса. Деревья стояли не шелохнувшись, зеленела трава по берегам ручья, который наговаривал что-то свое; и повеяло вдруг на меня таким покоем, что я хотел неслышно обойти это место и пойти дальше. Но увидел на пригорке старое кострище и направился к нему. Кострище было аккуратным, рядом лежали два чурбака, обрамляя его углом, и подумалось, что был здесь хороший человек, сидел ли просто так, отдыхая, или же охотился — не знаю, но чувствовалось, что поляну он берег. Может, поэтому или же из-за того, что красота поляны была первозданной, мне казалось, что не ступала на нее нога человека. Редко теперь встретишь подобное место в исхоженных лесах, и что удивительно — невдалеке от города. Беспокойные люди проскочили ближние пределы, устремились дальше, выискивая глухомань. И выходило, что только торопливость людская сохранила зеленую поляну, вот эти березы, молодую поросль и чистый ручей, который я без колебаний назвал Средним, в разумении того, что на лесных просторах отыщется и больший и меньший.
Прошлой весной, приехав вот так же на тягу, я попал под дождь, вымок до нитки, но решил дождаться сумерек: вдруг потянут вальдшнепы. И дождался: дождь перешел в снег, поляна скоро побелела. Птицы смолкли, наверное по-птичьи изумляясь: «Вот тебе и весна!» А я в густом снеге побрел на электричку... Это ушло в прошлое, а теперь было тепло, солнечно, весело распевали птицы, бездымно горел костер, ворчливо булькала вода в котелке. Хорошо было до удивления. Я смотрел вокруг — на березы, на небо, на старую просеку, которая и вывела меня когда-то на поляну. Там, вдали, над нею летала пара журавлей. Они ходили в небе плавными кругами, то показываясь над верхушками деревьев, то скрываясь за ними. К пению и возне птиц я привык, и мне казалось, что вокруг стоит тишина. Появившаяся сорока что-то протрещала, перелетела с березы на сосну, а затем подалась дальше, разнося, вероятно, весть о моем костре. Сойки, проводив сороку, притихли, после загалдели с новой силой, а какая-то неведомая мне птаха с завидным постоянством певуче утверждала: «Жили так! Жи-и-и-ли т-а-а-к!» Замолкла и прислушивалась, будто бы ждала ответа.
Пора было солить картошку; я вытащил из рюкзака сверток, а заодно — хлеб и колбасу, положил все это около чурбака на траву. В это время невдалеке послышался собачий лай, и тут же из кустов выскочила крупная лайка. Завидев меня, она остановилась в нерешительности, с любопытством оглядела костер, ружье и меня самого и, здороваясь, гавкнула один раз.
— Откуда тебя принесло? — спросил я, и лайка ответила звонко, возбужденно. — Охотишься, никак...
— Гуляет, — ответил мне хозяин собаки, выходя на поляну. — Рвется в лес, силы нет, только что за полы не хватает. Пошли и пошли! Ну, пошли, поскольку и мне размяться не мешает...
Подойдя, он поздоровался, быстрым взглядом оглядел костер, ружье, на меня взглянул искоса, как-то по-петушиному, определяя, видать, что я за человек. Было ему лет сорок, возможно, чуть больше; лицо — строгое, немного вытянутое, глаза — спокойные и внимательные. Одежда простая и обычная для леса: телогрейка нараспашку, клетчатая рубаха, на голове — облезлая шапка с разведенными ушами.