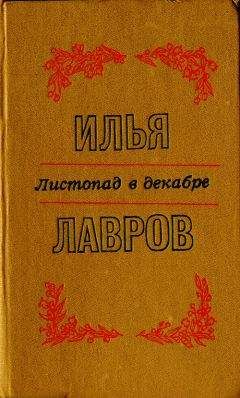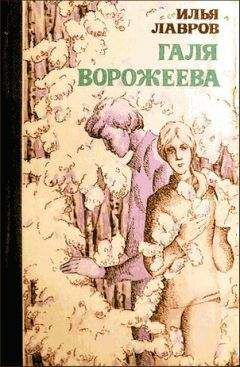Семен подошел к Сарафанникову.
— Ты куда?
— Куда бы шофер ни ехал, он всегда едет вперед. На нижний склад качу.
— Проехаться, что ли, пока дождь… Обратно подбросишь?
На дворе лесосклада Семен увидел горы бревен. «Сколько их!» — удивился он. Казалось, только могучей стихии под силу наворочать такие завалы.
— Сколько же здесь кубометров? — задумчиво спросил он у Сарафанникова.
— Да, пожалуй, тысяч двести, не меньше, если не больше! — Шофер прищурился, глядя в небо так, точно слушал далекую музыку. — Десятка два хороших деревень! Ваш брат наворочал! — добавил он и ушел.
Семен удивленно посмотрел на шевелящиеся под гимнастеркой лопатки Сарафанникова, потом стал внимательно разглядывать свои большие руки с липкими пятнами сосновой смолы.
Медленно обходя груды бревен, скреб шершавую щеку. От бревен пахло смолой. Семен понюхал руки — они тоже пахли смолой.
…Дня через три Лоскутов с Клашей вышли на работу. Начальник дал им комнату, и Клаша перевезла из деревни вещи. Вечером она стояла у ворот подбоченясь, насмешливо щурясь на женщин, словно вызывая их на скандал.
Лоскутов зашел в общежитие взять чемодан. Увидев, что все его имущество вместе с кроватью — в сенях, остановился на пороге комнаты:
— У кого это руки чесались? Таких вояк можно быстро к ногтю… — Он погладил суконку-бородку.
Семен лежал на кровати, заложив руки под голову, опустив обутые ноги на пол. Ягодко сидел с намыленным лицом — брился. Арсалан стоял на табуретке, исправляя репродуктор.
— Это тебя, гнида, к ногтю надо, — ощерился он и присел, точно готовясь прыгнуть на грудь Лоскутова. — Раз — и готово! — Арсалан прижал ноготь к ногтю.
Лоскутов сжал зубы, двинулся в комнату:
— Ты что это из себя строишь?
Семен неторопливо поднялся с кровати, под ним жалобно крякнула новая, совсем еще не расшатанная половица. Лоскутов глянул в его лицо, круто повернулся, сгреб вещи и уже в открытое окно крикнул:
— Мое вам!
Арсалан наотрез отказался работать с ним в паре. Мастер просил, требовал, приказывал — Арсалан гневно твердил одно и то же:
— Паршивая овца! Нож я на него точу! Э, паршивая овца!
Семен эти дни в клубе не появлялся, в волейбол и в бильярд не играл, до темноты бродил по тайге или сидел один на берегу ручья и слушал, как он прерывисто булькал, точно вода лилась из бутылки.
…Недели через две все женщины в Синем Колодце всплеснули руками: Лоскутов бросил Клашу.
Смеркалось, когда Лоскутов вышел из новой квартиры с чемоданом. Он шел вразвалку, ноги — колесом. В прежнюю комнату не решился идти и заглянул в соседнюю.
— Примите, братцы, в свой табор закоренелого холостяка! — наигранно весело крикнул он.
— Разошелся? — удивленно спросил Сарафанников, лохматый, в одних трусах, — он только что вымылся в ручье, и тело еще было красным от жесткого полотенца.
— Да, не столковались по ряду вопросов, — щегольнул Лоскутов фразой, подхваченной на собрании. — Еще не родился на свет человек, который бы командовал мною.
— Значит, наскочила коса на камень. Характерами не сошлись? — Сарафанников глядел в потолок.
— Выходит, так.
— Места у нас нет, — мрачно буркнул с кровати шофер лесовоза и отвернулся.
— Вон какая резолюция, — недобро засмеялся Лоскутов.
— Да, — посочувствовал Сарафанников. — Всей бы душой рады такому человеку, но…
— Ну что же, на «нет» и суда нет. Вопрос ясен.
— Чем богаты, тем и рады, — вежливо извинился Сарафанников.
В другой комнате Лоскутова встретили еще хуже.
— Черт с вами, кланяться в ноги не буду! Подумаешь, прынцип какой-то еще из себя строят! — взбесился он и вышел на улицу.
Тут Лоскутов на свою беду столкнулся с Полиной и попросился переночевать. А уже через минуту народ собирался на ее крик:
— Глазищи твои бессовестные! Когда ты влез между Семеном и Клашкой, мы молчали. Мы изо рта пар не выпускали. Думали, ты решил жить с Клавдей по-людски. А теперь вон как повернулось дело! Чего ты рожу-то свою воротишь? Боишься в глаза людям смотреть?
Горластая Полина яростно махала руками, платок сполз на плечи. Женщины окружили Лоскутова, а он растерянно топтался, не зная, как улизнуть.
— Тю, что вы, сдурели? Чего глотки дерете на всю глухомань? Что это за постановка вопроса — совать нос в семейные дела?
— Ишь ты, волчьи глаза морозу не боятся!
— Проходимец ты!
— Да чего мужики-то смотрят! Дать ему по шее, чтобы комом летел аж до самой тещи!
— А там еще теща добавит, чтобы прямым сообщением вылетел за Байкал!
Ребята из общежития стояли в сторонке, и Арсалан счастливым голосом приговаривал, приседая и хлопая по коленям:
— Ай, хорошо критикуют! Лучше всякого собрания! Прижали хвост!
— Попрошу не преграждать путь. Разговор исчерпан. Больно зубастые стали, — огрызнулся Лоскутов, пробрался через толпу и решительно зашагал в лес.
— Эй, медведь, однако, задерет! — пронзительно крикнул Арсалан и, вложив два пальца в рот, переливчато засвистел.
— Нищему пожар не страшен. Надел суму — перешел в другую деревню, — проговорил старик Лапшов. Он возвращался с охоты: на плече висело ружье, на поясе — утка.
Семен слушал эти крики задумчиво. И Лоскутов и Клаша были ему сейчас безразличны. Другое волновало его. Он чувствовал, как в душе росла теплота к этим женщинам, к этим трактористам, шоферам, сучкорубам. И опять, как тогда от березы и тишины, от звезд и костров, в душу входили покой и сила. И как-то слились для него в одно и эти люди, и та ночь на грузовике, и песня Алеши Сарафанникова, и охотник с вислоухой собакой. Семен стоял и смотрел на всех доверчиво.
— Ну вот, — сказал Лапшов. — Дрянь-то, она ведь и по чистой реке плывет. А ты, парень, всех под одну гребенку. Гуси и те не в одно перо родятся.
1955Алексей Алексеевич выскочил в темные сени и прижал руку к груди. Светилось золотое сердечко замочной скважины, доносился тоненький голос шестилетней Олюшки. Она пела для гостей:
Лобзай меня: твои лобзанья
Мне слаще мира и вина.
«Глупые, глупые, чему обучили ребенка», — рассердился Алексей Алексеевич.
Непогода заглушила детский голосок.
О дощатые стены стукал какой-то мусор, песок, хлопали ветви. Пахло из кадки солеными огурцами.
Дверь распахнулась, и в сени хлынули свет, шум, хохот, а когда она закрылась, все оборвалось, мгновенно стихло.
В темноте, шелестя и смутно белея платьем, к Алексею Алексеевичу бросилась Соня. Она ласково обхватила его за шею полными руками, горячо зашептала:
— Подожди, папа, я еще хочу попрощаться с тобой!
Ее поцелуй пах духами и вином.
Соня никогда не стеснялась ласки. Уже двадцатилетней, она могла сесть на колени к отцу. Сказав «доброе утро» или «спокойной ночи», она целовала его.
— Тебе хорошо было сегодня? — встревоженно шепнула Соня.
— Хорошо, а как же? — шепнул и он.
— А почему ты грустный? Я ведь все, все вижу, хоть и темно. Я словно кошка.
— Нет, нет, что ты, Сонюшка, нет, — его рука утонула в пышных волосах дочери.
— Ты любишь меня? Ты не разлюбил?
— Конечно же, конечно же люблю!
— И я тебя очень, очень… А я, дуреха, совсем пьяная! Ой, какая я пьяная!
Алексей Алексеевич, не видя в темноте, представил румяное лицо дочери. Доверчивые серые глаза и рука его, гладившая мягкие волосы Сони, мелко задрожала.
— Не надо, папа! Успокойся! Не надо! — заволновалась Соня. — Я знаю, я знаю — тебе будет скучно жить одному. Не скрывай! Но мы же каждый день можем встречаться. А как только захочешь — сразу переедешь к нам. Ведь я по-прежнему твоя дочь. Ведь я ничего плохого не делаю. Правда? Иначе же я не могу!
Алексей Алексеевич поспешил выйти на улицу. Ветер сразу же вцепился в полы пальто, в брюки, тащил их.
Алексей Алексеевич покусывал пляшущие губы.
А в сенях в темноте плакала Соня. Ей казалось, что она обманула отца, обидела его.
Оба стремительные, порывистые, горячие, они так были схожи, что без слов понимали и чувствовали друг друга.
Так одиноко и горько Алексею Алексеевичу было только в тот день, когда умерла его жена. Он тогда остался с Соней.
После этого они прожили вдвоем душа в душу семь лет.
По утрам вместе занимались физзарядкой, вместе готовили обед, а вечером вместе катались на катке в одинаковых черных костюмах, в одинаковых белых шапочках.
Но вот сегодня, в последнюю перед снегом ледяную ночь, Алексей Алексеевич остался один.
И все никак не мог он смириться с тем, что его дочь, частицу его жизни, вдруг забрал чужой человек. И даже фамилию ей переменил.
Получилось так, что у него, Алексея Алексеевича Макушина, никогда будто и не было дочери. И не носил он ее на руках, и не катался он с ней на катке.