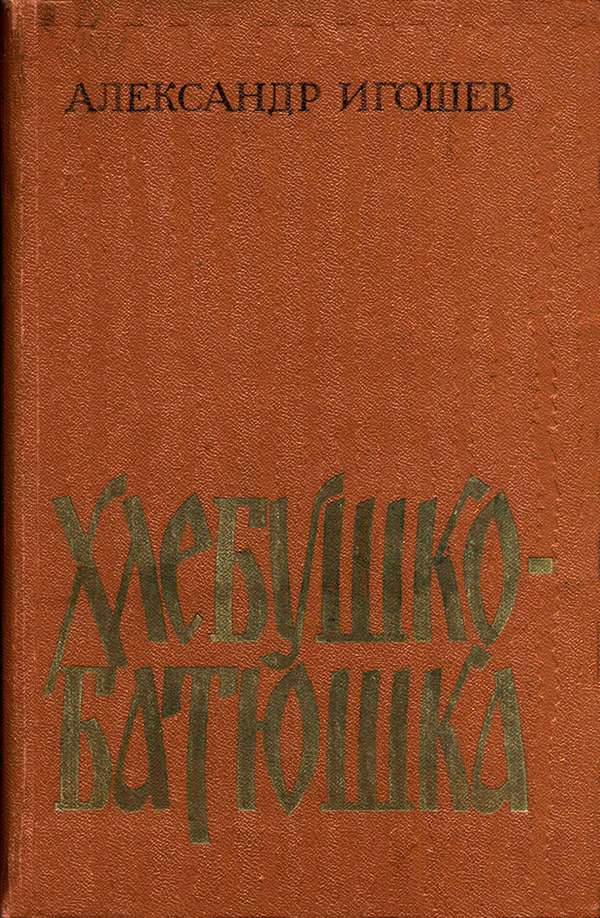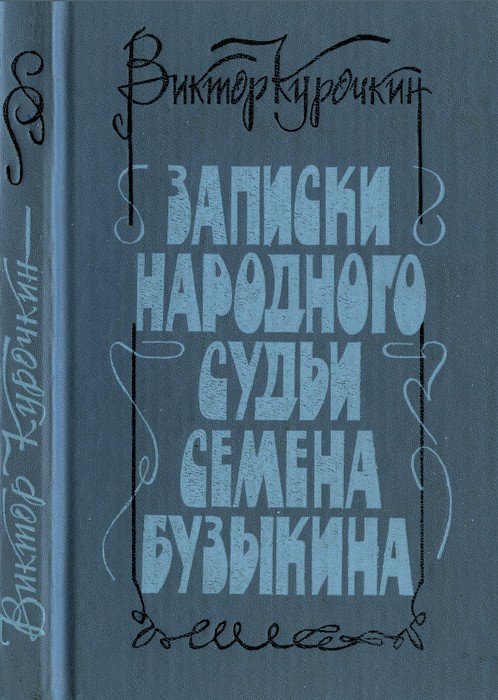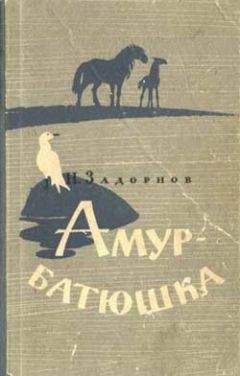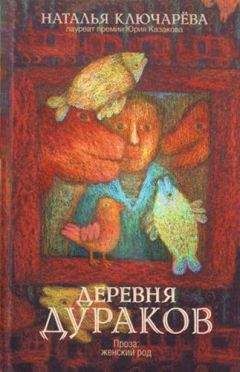при наливе и созревании. Феномен перестал, быть феноменом, и это обрадовало Павла Лукича. Хорошо, что и другие открыли сходное явление и ведут такую же работу. Когда она идет во многих местах и по многим направлениям, где-нибудь да дело будет доведено до конца. Он успокоился за пшеницу. Единомышленник-друг подал ему весть о себе. Теперь не страшно и умереть.
— Ты что — не рад?
— Нет. — Богатырев был строг и печален.
— Парфен, не шути! — Павел Лукич привстал на постели.
— Какие тут шутки. — Парфен Сидорович вскочил и подбежал к окну. Постоял там немного и вернулся назад. — Парадокс двадцатого века, — вздохнул тяжело, будто стискивая зубы. — Какое бы явление мы ни открыли, оно в первую очередь используется для разрушения. Вспомни ядерную энергию. Атомной энергетики не было и в помине, а новые, невиданной силы бомбы уже рвались над Хиросимой и Нагасаки. А химия? Еще и не пытались применить ее на полях, но боевые отравляющие вещества уже были пущены ядовитым облаком на русского солдата… Всякое открытие нового предполагает разрушение старого. И вот эту-то сторону в первую очередь используют люди.
— К чему ты клонишь, я что-то не пойму.
— К тому, что и в вашем открытии есть негативная сторона. Создание нового вида пшеницы происходит при расщеплении старого сорта; в свою очередь, новый сорт саморасщепляется и саморазрушается.
— Ты думаешь, найдется человек, который, не задумываясь, применит это свойство в своих целях?
Парфен Сидорович грустно поглядел на Павла Лукича.
— Да.
Павел Лукич прилег. Глаза его горели. Что делать? Начавшегося в природе процесса не остановишь; притормозишь его в одном месте, он вспыхнет в другом. Единственный выход — быстрее найти средство против саморасщепления.
— Ты не ожидал такого поворота? — спросил Богатырев. — Я, признаться, нет.
— Я все думаю, — Павел Лукич приходил в себя, — неужели это разрушение запрограммировано? Я говорю не о природе, нет, а о том, что при открытии используется людьми его «негативное» начало.
— Есть в мире люди, которые исповедуют культ разрушения. Ты посмотри, что происходит с культурой в наши дни. Эти изломанные ритмы в музыке, это беспардонное нагромождение линий и красок в живописи, это циничное коверканье на сцене того, что создали наши великие предки, — понимаешь ли ты, что сие значит? Убить прекрасное в человеке — да ведь это значит душу вынуть из него. А что он без души? Робот, изгой, пария, выполняющий чью-то злую волю. И что тогда из того, что кто-то из нас построит великолепный дворец, выведет новый, невиданный сорт пшеницы, напишет гениальную музыку, если завтра вот такой изгой по чьему-то велению взорвет все это водородной бомбой к чертовой бабушке?
Парфен Сидорович, волнуясь, ходил по комнате и говорил, говорил…
3
Когда чего-нибудь ждешь, как тянется время! Будто едешь на волах. Дни длинные-предлинные, а ночи… Телефонистка Даша заметила, что ее начальницу Наталью Васильевну словно подменили. Прежде она прибегала утром на почту резвая, как ртуть, ни минуты не сидела спокойно, торопилась сама и подгоняла почтальонш. Теперь начальница задумчиво садилась у окна и часами глядела на заросшую лебедой улицу. Даша и сама жила ожиданием; только когда приходили письма из части, отпрашивалась и убегала куда-то с письмом в руках.
Талька считала дни, когда можно будет позвонить Виктору. Она надеялась, что Виктор догадается и сам, заскучает и позвонит или нагрянет в Давыдково. Но, рассуждала Талька, ученые — народ занятой, весь ушедший в работу, и где там Виктору помнить какую-то Тальку; она мелькнула и забылась, ведь прошло уже столько дней.
Наконец настал день, когда Талька позвонила на станцию. Она волновалась и повторила раза два:
— Это я — Талька.
— Здравствуй, Таля. Что-нибудь случилось? — спросил Виктор.
— Ничего.
— А чего звонишь?
— Давно не виделись, вот и звоню.
— Давай встретимся.
— Знаешь что — приходи сегодня на танцы, — предложила она.
— Идет. Договорились.
Все так просто. Талька стояла с трубкой в руке и улыбалась; в телефоне коротко гудели отбойные гудки.
Вошла Даша. Талька поглядела на нее, на телефон, на коричневый шнур и трубку, зажатую в руке, и повесила ее на место.
Даша со значением улыбнулась.
— Ну и как, Наталь Васильевна? Он придет?
— Кто? — прикинулась непонимающей Талька. Но шустрая Дашутка погрозила ей пальчиком:
— Кто, кто. Мы знаем кто, Наталь Васильевна.
— Дашутка! — прикрикнула на нее Талька.
— А что, Наталь Васильевна, дело обычное — любовь. — Даша недавно краснела при одном этом слове, а теперь говорила его, и хоть бы что, как будто говорила про любимое платье. — Мне Толик пишет: если дождусь, когда вернется со службы, зашлет сватов. Вот и вам бы…
— Ох, Дашка, много ты на себя берешь, так со мной разговариваешь! — скорее притворно, чем всерьез, рассердилась Талька.
Телефонистка только шмыгнула хорошеньким носиком.
После обеда Талька как на иголках.
— Идите домой, Наталь Васильевна, — понимающе поглядела на нее Даша. — Я и одна подежурю.
— Я сама знаю, что мне делать! — огрызнулась Талька, но домой ушла.
Когда стемнелось, за деревянным одноэтажным клубом на танцплощадке под деревьями зажгли свет. На окне поставили динамик, пустили пластинку. Ту-ту-ту-у, — труба пропела протяжно, тарелки брызнули надтреснутым звоном, оркестр подхватил мелодию, и внутри у Тальки все заныло. Виктор в белой рубашке и в темном костюме. От него наносило каленым запахом утюга. А сама Талька… На ней бежевое приталенное платье и поверх него капроновая накидка, «дымкой» называемая; так зовут ее за то, что как дымкой тайны окутывает девичье тело. Прическа у Тальки простая: волосы волнами сверху и по бокам, и в русых этих волнах широкое лицо светилось большими глазами. Ресницы и брови Талька подкрасила, и оттого глаза стали таинственней и крупней.
Она танцевала с Виктором все танцы. У нее разгорелось лицо, в уголках лба кожу усеяли капельки пота. Но едва кончался короткий между танцами миг перерыва, как она, улыбаясь и весело глядя на него, клала на плечо ему руку и начинала кружиться. Кругом десятки лиц и глаз, но она видела одно его лицо, одни его глаза. Музыка из динамика была сама по себе, а в душе Тальки жила другая музыка — скрипка или виолончель, звучные, как человеческий голос; воображение рисовало мужественного юношу, влюбленного в нее. Талька так увлеклась, что положила голову Виктору на плечо.
В середине ночи толпа на танцплощадке поредела. Виктор и Талька вышли за ограду. Блестя глазами, Талька сказала:
— Пойдем погуляем?
Виктор взял ее под руку, Талька прижалась к нему; они шли ночной деревенской улицей во влажной темноте. На танцплощадке опять включили радиолу. Зыкина грустно пела: «Издалека долго