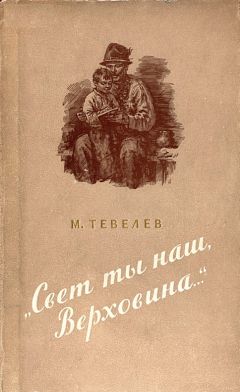Я свернул в переулок и оказался перед светящейся дверью ночного буфета. Машинально толкнул ее и вошел в задымленное помещение, освещенное зеленоватым светом газового рожка. Поздние посетители пили вино у буфетной стойки. Два тощих цыгана, закатывая глаза и отбивая такт ногами, пиликали на скрипках.
Я подошел к стойке.
— Какого пан прикажет? — спросил хозяин, выжидающе склонив набок голову.
— Все равно, — сказал я.
Хозяин взял с полки стакан и стал наполнять его розоватым вином.
Посетители были пьяны и разговаривали громко, словно глухие.
Я выпил вино, не переводя дыхания, как пьют при сильной жажде воду.
— Лучшее в Ужгороде! — щелкнул языком хозяин. — Не правда ли?
Я промолчал и знаком попросил налить второй. Был налит второй и третий; я пил вино залпами и не пьянел, а испытывал только знобящую теплоту во всем теле.
— Еще? — вопрошающе, с бутылкой в руке, глядел на меня буфетчик.
— Да, еще, — кивал я.
И розоватая жидкость, вся в искорках, булькая, заполняла стакан. А я не пьянел. В голове становилось легко, просторно, и каждое слово «еще», которое я произносил, звучало вызывающе громко среди пьяного смутного говора посетителей. Один из них, стоявший ко мне спиной, неожиданно обернулся. Мутные глаза его уставились на меня.
— Пане, — произнес он, с трудом выталкивая заплетающимся языком слова, — я хочу выпить с вами за то, чтобы все на свете шло к черту, вот за что… Все к черту!.. — и, мгновенно забыв обо мне, уронил голову на стойку.
— Лучшие экипажи в городе! — шепнул мне хозяин буфета, кивая на охмелевшего посетителя. — А жена сбежала с кошицким вояжером, не слыхали? Об этом говорит весь город!.. Еще стаканчик?
— Нет, — покачал я головой и стал расплачиваться.
Очутившись на улице, я снова почувствовал озноб.
Лицо мое горело, глазам было больно глядеть даже в темноте. Я шел в каком-то полузабытьи. Минутами сознание, как от толчка, начинало работать лихорадочно и ясно. Да, Куртинец прав, прав во всем, что он говорил. То, чего я добивался и что мечтал осуществить, было не только не нужно пану губернатору, Лещецкому, всем этим депутатам и сенаторам, не только не нужно, но и враждебно им. И Горуля понимал это. Сознание опять мутилось, и все исчезало, кроме болезненного озноба, трясшего меня.
Я не помню, как очутился у дома Лембея, как отпер калитку и вошел во флигель. Я помню только, как взял со стола зеленую папку и спокойным, размеренным движением начал вырывать из нее страницы, одну за другой. Затем так же спокойно я сунул весь этот бумажный ворох в печку и поджег его.
Синее пламя лениво поползло по одной из страниц. Смятый лист расправился, как живой, и я успел заметить, что это была первая страница вводной части записки, а когда лист расправился еще больше, мелькнула строка из сказки о ключе Миколы: «… А земля все стоит и стоит запертая». Но вот синеватый огонь лизнул эту строку и обуглил ее. Я не ощущал ни сожаления, ни раскаяния; полное безразличие овладело мною. Вдруг весь ворох занялся ярким золотистым огнем, клочки черного пепла выпали из печки, — и больше я уже ничего не помнил.
Десять дней… Их следует считать вычеркнутыми из моей жизни. Единственно, что осталось в памяти, — это короткие проблески сознания, когда сквозь мутную пелену забытья я еле различал очертания лиц склонившихся надо мной людей и слышал звуки их голосов. Но стоило чуть-чуть напрячь силы, чтобы пошевельнуться или что-то произнести, как лица таяли, звуки сливались в одну дребезжащую ноту, и я вновь впадал в беспамятство.
Десять дней, теперь они остались позади. Мои глаза открыты, и надо мною, склонившись, стоит Ружана. Лицо девушки осунулось, и я ясно вижу, как дрожат слезинки на ее ресницах.
— Почему вы плачете? — спрашиваю я, и собственный мой голос кажется мне чужим и далеким.
— Не знаю, пане Белинец… Теперь будет все хорошо…
Жизнь со всеми ее ощущениями, памятью и желаниями осторожно, будто пробуя, выдержу ли я весь этот груз, возвращается ко мне. Я уже сознаю, где я и что со мной произошло; я вижу, что на улице день, светит солнце и ветер качает под окном голые ветки дерева. Вижу склянки с аптечными сигнатурками на столике возле кровати и чувствую, как Ружана подносит к моим запекшимся губам ложечку с лимонной водой.
— Выпейте, — просит она.
Я пью покорно, но неловко, по капле.
— Совсем разучился.
На лице Ружаны выражение материнской заботы, от которой на душе делается легко и спокойно.
— Какой сегодня день? — спрашиваю я.
Ружана отвечает.
— Я был очень болен?
— Да, вы были очень больны, пане Белинец, но теперь все прошло. Прошу вас, ни о чем не думайте и не разговаривайте много: это вредно… Я только об одном хочу вам сказать: когда вы были больны, вами интересовался пан Матлах. Он говорил, что вы с ним из одного села, и просил передать, что, как только представится возможность, ему нужно встретиться с вами.
— Матлах? — переспрашиваю я. — Да, мы с ним односельчане… Что ему надо?
— Ну вот, вы уже и волнуетесь, — укоризненно говорит Ружана. — Знала бы, ничего не сказала.
— Нет, я не волнуюсь… Матлах?.. Он не говорил, зачем я ему нужен?
— Нет. Он приезжал в Ужгород к врачам. У него ноги больны, не может передвигаться… Скоро он снова приедет. Все! Больше и не вздумайте расспрашивать!
Я ощущаю такую усталость, что глаза мои смыкаются, и я засыпаю…
Возвращаясь из банка, Чонка сразу забегает ко мне во флигелек.
— Рад, что все обошлось и ты выкарабкался, — говорит он, грузно опускаясь в кресло. — Слушай, а не глотнуть ли нам по случаю твоего выздоровления? Нельзя? Почему нельзя? А, эта Ружана! Но что женщины понимают в вине? Ровным счетом ничего.
Чонка тоже говорит мне о Матлахе.
— Черт его знает, зачем ты ему понадобился! Но Матлах — это серьезно. Он высоко котируется, его побаиваются. Груб? Да, груб, но человек своего слова. Скажет: «Я вас съем» — и съест, даже косточек не останется. Скажет: «Я вас озолочу» — озолотит!
— И тоже косточек не останется? — улыбается Ружана.
— В деловом мире и так бывает, — соглашается Чонка.
Только через несколько дней Ружана разрешила мне прогулки по дворовому садику. Ей доставляло большое удовольствие опекать меня, а мне — подчиняться ее опеке. Иногда она сама подолгу бродила со мной взад и вперед по коротким дорожкам садика, расспрашивая о Верховине, Брно, о людях, которых мне приходилось встречать. Я рассказывал ей о Горуле, быстровском учителе, Гафии, докторе Мареке. Для Ружаны это были люди из другого мира, совсем не похожие на тех, каких знала она.
Но радостное чувство выздоровления омрачилось. Я очень скоро заметил, как сухо разговаривали со мной старый и пани Юлия. Красные глаза Ружаны и раздражительность Чонки были тоже достаточно красноречивы. Было ясно, что в доме Лембеев разлад и виновник его я.
В конце концов Чонка рассказал мне о том, какая буря поднялась в семье, когда Ружана не дала увезти меня в больницу и, пренебрегая возмущением домашних, приняла на себя тяжелую обязанность сиделки. Она не отходила от моей постели в течение десяти дней, строго выполняя все указания врача.
— Представляешь себе, — говорил Чонка, — впервые взбунтовалась, и еще как! Старый и Юлия до сих пор не могут прийти в себя. А к тому же они ведь верят, Иване, всему, что было про тебя написано в той паршивенькой статейке… Но не обращай на это, пожалуйста, внимания, пусть думают, что хотят. Если на то пошло, черт побери, хозяин здесь я! Я тащу их на своей шее, вот и все!
Я был благодарен Чонке, но как ни велика была моя благодарность и как ни был я теперь привязан к Ружане, я чувствовал, что задыхаюсь в затхлой атмосфере дома Лембеев. Самолюбие мое страдало ужасно, и сознание, что сейчас мне некуда идти, было мучительно.
Поисками службы я занялся, едва только оказался в состоянии кое-как держаться на ногах.
Сначала мне как будто повезло, я узнал сразу два адреса, где требовались инженеры сельского хозяйства. Помчался по первому адресу, но, увы, как только назвал свою фамилию, наступила пауза и мне вежливо ответили, что, к сожалению, вакансия уже занята. То же самое произошло и в другом месте.
Отказали и Чонке, когда тот попытался устроить меня на должность переписчика в частной конторе. Днем еще он уверял, что нечего беспокоиться и должность за мною, а вечером, вернувшись из банка, уныло развел руками.
— Ничего не получилось, Иванку. Эта паршивая статейка портит все дело.
Потянулись тяжелые недели бесплодных поисков работы. Первое время я еще лелеял надежду на какую-нибудь счастливую случайность, но в конце концов даже от этой призрачной надежды ничего не осталось. И к числу тех, кто целыми днями простаивал на пешеходном мосту и набережной, мрачно наблюдая за рыболовами, прибавился еще один неудачник.