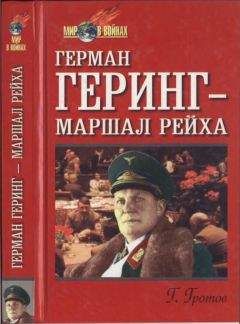Баба Люба шла чуть впереди, негромко сообщая свои мысли:
— Парень как парень… Симпатичный… При должности. И скромный, видать. Строго держался. Это Насонов как на трибуну вылезет, так уж тут он и руки по бокам положит, и из стакана все припивает… А из бумаги глаза никуды, будто телок на привязи… Не-е-ет, девка, ты балуешь. Человек в загс звал и не лез без дела… Чего искать ишо надо? Другой бы обгулять норовил допрежь, а потом с него шиш спросишь. А этот порядочный, неизбалованный, видать. Ох, девка… Крапивой бы тебя по заду за норов. Ты гляди, замиряйся, а то ведь меня знаешь, поеду в район, найду его и сама приведу. Скажу, что ты у меня с придурью от роду… Спрос, дескать, с нее невелик. Бери, добрый человек, коли приглянулась.
Вера улыбнулась. Ох, бабушка… Неисправима. Уши прожужжала о замужестве. Как же, норовит пристроить внучку. Старается.
Молча поднялись на крыльцо. Вера прошла к себе в комнату, отказавшись от предложенного молока. Медленно разделась, легла в постель. В открытое окно с улицы долетел запах полыни. Тонко попискивали комары: пруд рядом. Протарахтел на мопеде под самыми окнами Витька Лешуков, совершает свой ночной объезд. Еще один жених. Вера, за могучий рост и квадратные плечи, звала его Лошаковым, но Витька не обижался. Месяца три назад пришел в середине дня к ней в больницу в костюме и при галстуке. Сел напротив.
— Что случилось, Витя? — спросила она.
— А что со мной может произойти? По делу я к тебе. Слушай, тут вот я прикинул… акромя меня да главного агронома тебе замуж у нас не за кого… Остальные ребята — молодежь… А муж должон быть хоть годов на пять старше. Так вот я спросить тебя, перед тем, как сватов посылать, как ты про это дело понимаешь? Мне никак нельзя позору, Вера… Механик я, депутат сельского Совета. А кто ко мне пойдет, ежли ты гарбуза мне влепишь. Вот узнать пришел.
Ой, Витя-Витя… Сказать бы тебе правду, так обидишься. Когда была в шестом, недели две считала себя в него влюбленной. Он был тогда уже десятиклассником. А ей понравился за то, что хорошо на лошади ездил. Верхом и без седла. Вцепится голыми пятками в бока лошади — и погнал. Как в фильмах некоторых, где герои на конях скакали. А потом приехал новый учитель математики — и она в него влюбилась. Тоже месяца на два, пока он ей единицу на уроке не поставил. Она всю ночь проплакала тогда, прощаясь навек с любовью.
— Так что ты мне скажешь? — Витя поеживался в узковатом кресле, а кроме этого, было довольно жарко и он томился в галстуке.
— Что скажу, Витя… Не надо сватов.
— Все понятно. Значит, главный агроном таки обошел?
— Нет, будь спокоен. Не главный агроном.
— Ты что, в бобылках порешила сидеть? Али королевича ждешь?
Хотела выкрикнуть: да, жду, но раздумала. Не поймет Витя. А раз не поймет, то к чему говорить?
И ушел Витя в недоумении, прикидывая для себя, что у Верки небось на примете кто-то есть, а вот кто — тут уже мозгой пораскинуть надо. В селе конкурентов не предвиделось.
С той поры Витя, почти каждый день, где-то около десяти вечера «прогуливал» мимо ее дома свой мотоцикл. Одно время она даже побаивалась, что он может увидеть их с Рокотовым, но потом эта мысль сама по себе ушла. Разве мог бояться кого-нибудь в мире Рокотов?
И откуда он только взялся? Вот так шло бы все своим чередом и жила бы она спокойно, как до того дня, когда он подвез ее. Начитанность собеседника нравилась ей, потому что с ним было легко разговаривать, он на лету воспринимал сравнения. Это было интересно. И еще ей нравилось то, что он не пытался применять давно известные мужские приемчики: для начала взять под руку, будто невзначай коснуться плеча, щеки, потом попытка поцеловать для зондажа настроенности… Ах, как хорошо все это было известно Вере и сразу вызывало по отношению к мужчине определенную настороженность, даже неприязнь: «Ишь какой шустрый…»
Она заметила в собеседнике склонность с властолюбию, и это ее тоже встревожило. Сейчас она качества каждого знакомого своего, почти незаметно для самой себя, прикладывала в уме к эталону, который создала за эти годы. Она просто знала, каким должен быть ее муж, и вот теперь искала его уже не по красивому лицу и спортивной фигуре, а по проблескам характера, по умению мыслить и относиться к собеседнику. И каждое слово Рокотова было для нее либо подтверждением, либо отрицанием. Она ругала себя в душе за столь трезвый, деловой подход к знакомству, а через минуту уже успокаивала себя, оправдывая только что ушедшие мысли: «О какой высокой любви можно говорить? Вот ждала его столько лет, а где он? Почему не приходит? И есть ли он такой, какого она мечтала встретить вообще в жизни? А если и есть, то около него уже давно любимая женщина. Потому что идеал, к сожалению, стереотипен и пользуется спросом». А потом ей вновь становилось противно за все эти обидные пошлые слова и она думала о том, что в мире каждый человек раскрывается по-своему и в определенных условиях и что, может быть, совсем рядом с ней ходит тот, кто предназначен для ее счастья, и она даже не знает об этом. И тогда ей просто хотелось реветь, потому что от роду она такая невезучая. Мать умерла рано, а отец, закружившись с проезжей буфетчицей, укатил в Сибирь и вот уже восемнадцать лет присылает открытки на ее день рождения и без обратного адреса. И мать и отца заменила ей баба Люба, вечная свекловичница, руками своими да тяпкой заработавшая пенсию и на скудные свои копейки сумевшая не только поднять ее, но и дать высшее образование. А сейчас бабуля мыслит только о том, чтобы выдать ее по-доброму замуж, и для этой цели прячет в заветный сундук старорежимные ситчики, фарфоровых слоников и рисованные ковры. И сказать ей, что все это ни к чему, — нельзя, потому что это — цель ее жизни, уверенность в том, что так и нужно для блага внучки, для ее счастья и что это — именно то, что позволит ей когда-то сказать: «Было не хуже, чем у людей».
И Насонов тоже. Явился как-то вечером, присел за столик. Потребовал квасу. Баба Люба, спотыкаясь от старательности, помчалась за квасом, а Иван Иванович вдруг сказал, пристально на Веру глядя:
— Одобряю… Ну и девка… Разглядела самого завидного в районе жениха. Ну, молодец…
— Вы о чем, Иван Иванович?
— О Рокотове. О первом секретаре райкома партии.
— Мы с ним просто знакомы.
— Так-так… — Насонов полистал эдак подчеркнуто равнодушно лежащий на столе учебник терапии. — Оно, конечно, тебе виднее, Дело это не мое. Своих заботушек по самое горло. Ладно.
Он ушел, так и не дождавшись квасу, к немалому изумлению поспевшей как раз к его уходу бабы Любы, и еще долго Вера пыталась понять, зачем был этот визит и что он означал для Насонова.
Что же ты хочешь, милая? Вот ездит к тебе хороший человек, как бабуля говорит, при должности, а ты чего-то перебираешь, чего-то ищешь. А принца твоего никогда и не будет. Разве только Андрей? Нет, это что-то другое. А тебе уже третий десяток, как ни крути, надо думать, потому что время замужества — это как рейсовый автобус: зазеваешься, он и уйдет. А потом хоть беги за ним следом — бесполезно.
Нравился он ей, тут сомнений не оставалось, но в той ли степени, чтобы говорить о замужестве? Это же ведь на всю жизнь. И что делать с Андреем? С доктором Кругликовым, как звали его в институте усовершенствования. Она приехала туда на шестимесячные курсы, и он сразу же подошел к ней. Они были в одном общежитии и оттуда добирались вместе на площадь Восстания, и он прекрасно разбирался во всевозможных пересадках с троллейбуса на троллейбус, и ей с ним всегда было весело. Иногда, когда выдавалась возможность, они вместе ходили в театр, даже на бега, и в эти часы он ей рассказывал о своих делах, больнице в маленьком приволжском городке, где вечно не хватает терапевтов, потому что они убегают при первой же возможности. Но городок по его рассказам она представляла до мельчайших деталей, вплоть до почерневших от времени заборов и крутого спуска к реке, где стоял старый дебаркадер и леса на той стороне Волги, в которые он ездил каждую зиму, чтобы ходить на лыжах. И моторку его со странным именем «Аргус» она будто видела, потому что он детально описывал, как накладывает свинцовый сурик на ее борта, а затем красит каждую весну в нежно-голубой цвет. Он был некрасивый, но очень добрый, и она как-то к нему привыкла. И когда накануне отъезда он сказал ей, что любит ее, она даже не удивилась этому, потому что все было так понятно и без этих слов. И они договорились встретиться в мае, на будущий год, и он присылал ей редкие открытки, потому что заранее сказал, что не любит писать. А она отвечала ему на каждую третью открытку небольшим, но хорошим письмом. А в апреле заболела баба Люба, и поездка в Москву не состоялась, о чем она сообщила ему. А он не ответил, видимо, был обижен. И она ему больше не писала, рассудив, что он мог бы быть и повнимательнее. А в душе готова была послать телеграмму, если б получила письмо с просьбой приехать к нему и остаться. Главное было в бабе Любе, и она надеялась, что, может быть, удастся уговорить его приехать сюда и ему приглянутся эти чудные места, где хоть и нет реки, но зато природа такая, что забыть ее потом трудно. И думала обо всем этом так часто, что обида уже начала проникать в ее душу из-за того, что Андрей просто молчит. И тогда, когда ездила в областной центр, чтобы узнать, как дозвониться до города, где жил Андрей, встретила Рокотова. Ей сказали, что междугородный разговор возможен только в поздние часы, а для этого нужно было ночевать в Славгороде. А назавтра у нее был прием, и она вернулась, рассудив, что можно позвонить в другой раз. И тут появился Рокотов, и все это было вовремя, потому что нужно было отвыкать от мыслей, связанных с Андреем. Она решила, что все должно быть именно так, и убрала со стола в больнице его фотографию в докторском халате с лицом внимательным и чуть строгим. И с той поры фотография лежит изображением вниз на самом донышке ящика и много дней она не глядит на нее. Иногда только, перебирая бумаги, увидит бисерный почерк надписи на обратной стороне и опять торопливо положит сверху документы.