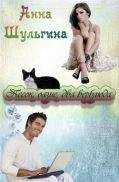И, словно поняв этот ход мысли парторга, Човдуров смягчился.
— Ну ладно, будет нам ссориться. Еще успеем!
Как будто в воду глядел…
Не успели они с Сафроновым вернуться с промысла в контору, Аннатувак зашел в кабинет Амана с бумагой в руке. Вид у него был несколько сконфуженный.
— Хочу с тобой посоветоваться.
— Знаю о чем, — уверенно сказал Атабаев.
— И ничего ты не знаешь!
Аннатувак протянул вдвое сложенный листок.
— Очень хорошо знаю, жалкий бюрократ, — с усмешкой настаивал Аман. — Я знал даже, что будешь об этом советоваться. Хотя такие вопросы ты всегда решал самостоятельно… А если бы на этот раз не показал этого приказа, я бы сам нашел тебя, пока ты еще не подписал.
— Настырный ты человек, всегда был такой, — растерянно отшучивался Аннатувак. — Если все знаешь, погоди читать. Скажи, зачем пришел?
— Ты пришел сказать, что Тамара Даниловна приглашает меня в гости, — пробурчал Аман.
— Вот пригласительный билет, читай.
На листке бумаги рукой Аннатувака был набросан проект приказа о внеочередном отпуске бурового мастера Тагана Човдурова в связи с успешным окончанием скважины на Вышке. Атабаев покачал головой.
— Ты спросил отца?
— Я отпускаю бурового мастера.
— Но в отпуск уходят не для того, чтобы передвигать в пустыню многотонное оборудование, а для того, чтобы отдыхать.
— И я такого мнения…
— Иди к черту, дорогой! Когда ты покончишь со своим ребячеством?
Пока Аман читал листок, Човдуров вертел в руке крышку от чернильницы. Теперь он кинул ее, и она со звоном покатилась к дверям.
— Если не знаешь, запомни, — крикнул Аннатувак, — я не ребенок, я отец ребенка! Мои поступки не детский каприз, который пройдет, если шлепнуть слегка по мягкому месту!
Аман молча прошел к двери, поднял крышку, вернулся, положил на место.
— Я не согласен с твоим проектом, — наконец коротко сказал он, не глядя в лицо друга.
— Почему?
Потому что Таган-ага из тех людей, которые закладывали основы нашей нефтяной промышленности, потому что он проработал в Небит-Даге двадцать пять лет. Таких людей надо уважать. Это его беда, что он твой отец, а ты начальник конторы.
— Ты бы хотел семейственности, так, что ли? Выросли новые кадры, люди знают современную технику, обучены после войны, ездили и в Баку, и в Башкирию… Люди, как молодые чинары, растут… А я буду держаться за старых?
Аман улыбнулся этим словам, и снова вспыхнул Аннатувак:
— Ты что хихикаешь? Что я — смешное сказал?
— Ты только не бросай больше чернильниц в моем кабинете… Вот я думал о тебе, Аннатувак, и вспомнил, что слышал однажды в детстве. Рассказ один.
— Какой еще рассказ, полковой агитатор?..
Аман присел за стол и с улыбкой, всегда обезоруживавшей вспыльчивого друга, рассказал старую легенду.
— Когда-то в древности в одном княжестве был обычай: когда старели отцы, сыновья брали их на спину или на плечи, а другие просто на руках относили за гору, в пустыню, и оставляли там. Вот однажды сын нес своего отца и устал, присел на бугорке отдохнуть. Старик рассмеялся. Сын спросил: «Я несу тебя на смерть, а тебе весело?» — «Когда-то и я нес своего отца, — отвечал старик, — и отдыхал на этом же бугорке. Вспомнил об этом, почему-то стало смешно… А тебе не смешно, сынок?» Говорят, к вечеру сын принес своего отца домой, и люди с тех пор отказались от древнего обычая.
Човдуров не улыбнулся, только немного невпопад спросил:
— Ты что, считаешь моего отца и своего тоже академиками?
— Они, верно, не имеют высшего образования, не так уж глубоко разбираются в физике и математике, но в карманах у них партийные билеты и дипломы мастеров, в голове и в руках многолетний опыт. Таган-ага не слишком начитан по части геолого-технической литературы, но свойства и поведение пластов он знает, как характер своих детей. Сперва ты хотел уволить его на пенсию, списать с корабля, он рассердился на тебя. И поделом. Теперь хочешь, упрямый бык, отправить его в Кисловодск на двадцать шесть дней — пусть без него начнут сложное бурение в Сазаклы. Давай помиримся на том, что ты разрешишь ему и всей бригаде банный день… Скажут тебе спасибо!
Човдуров сидел молча, опустив голову, водя пальцем по столу. Аман положил руку ему на плечо.
— Аннатувак, ты помнишь…
— Нет! — не стал слушать Човдуров и дернул плечом, стараясь высвободиться из-под руки. — Нет, товарищ полковой агитатор, не помню, и не напоминай!
Андрей Николаевич стоял в двери, как бы молча спрашивая, не помешал ли, можно ли войти. Аман широким жестом пригласил его, показал на стул.
— Подожди, потерпи немного… — продолжал он, обращаясь к Аннатуваку. — Ты помнишь, на днестровском плацдарме было плохо, автоматчики простреливали нашу ложбинку, с вечера не было связи со штабом, патроны кончались… Мы лежали под деревом, помнишь? Что ты тогда сказал?
— Ничего… Наверно, что-нибудь по-латыни…
— Если забыл, напомню. Ты сказал, что готов к смерти, только жалко отца — будет страдать с разбитым сердцем до самой могилы… Тогда жалел, что ж он тебе теперь — хуже кажется?
Андрей Николаевич рассмеялся.
— У нас так говорят в России: «Есть старик — убил бы, нет старика — купил бы».
Уже давно проект приказа был машинально свернут в трубочку в руках Човдурова. А сейчас полетели на пол кусочки бумаги.
— Идите вы к черту с вашим хоровым пением! — крикнул он, пытаясь улыбнуться. Потом встал и быстро вышел из комнаты.
Глава двадцать третья
Небит-Дагская летопись
Уже на лестнице Аман досказал Сафронову о сегодняшней схватке с Аннатуваком.
— Вот башка садовая! — смеялся Андрей Николаевич.
— Я считаю, мастер Човдуров должен бы мне магарыч поставить, — улыбаясь, говорил Аман. — Подвезти вас?
— Я пешком…
— Ну, тогда до завтра.
— Желаю здравствовать.
Парторг захлопнул дверку машины. Андрей Николаевич широко зашагал по улице. Погода была мягкая, воздух изумительно чист. Над синими скалами Балхана два облака строили в небе какой-то причудливый чертог. По улице мимо Сафронова мчались машины, их стекла отражали солнце, и на садовых дорожках за оградами коттеджей песок блестел крупными зернами, точно бисер.
Главный инженер предпочитал возвращаться домой из конторы пешком. Такие прогулки он совершал вовсе не из гигиенических соображений; он просто любил город и не хотел никуда торопиться. Минувшая неделя изрядно измотала — надо было подгонять программу к концу года, обычно Андрей Николаевич домой возвращался поздно. А сегодня с особенным удовольствием шел по чистым улицам, раскланиваясь со знакомыми, поглядывая по сторонам. Конечно, не найдешь в этом городе ни мраморных дворцов, ни гранитных набережных, ни столичной пышности, а все-таки туркмены не зря говорят о Небит-Даге «наш Ленинград». Андрей Николаевич был страстно привязан к этому чуду пустыни, от его внимательного взгляда не укрывалась ни одна, даже маленькая, перемена, происшедшая в городе за неделю, и в этих наблюдениях, пожалуй, и заключалась вся прелесть неторопливых прогулок.
Расковыряли асфальт, — значит, решили закладывать бульвар, не дожидаясь весны. На Первомайской, рядом с базаром, открыли новую парикмахерскую — напрасно только выкрасили павильон голубой масляной краской, можно бы и просто побелить в тон окружающих зданий. В палисадниках сто сорок второго квартала высадили цветы: ничего, что это жесткие, как солома, циннии, подведут воду к весне, посадят ирисы…
Не только прохожие, а и собаки знали Сафронова. По улицам этого игрушечного города, придавая ему особый уют и оживление, всегда бегали собаки, не одичалые псы, слоняющиеся в переулках Стамбула или Тегерана, а выхоленные овчарки, легавые, сеттеры. А сегодня мимо Сафронова важно прошествовал великолепный незнакомец — желтый боксер; подрагивая мускулистыми ляжками, он умно навострил уши и наморщил могучий выпуклый лоб.
Возле дома встретил Андрея Николаевича собственный Трезор, полутакса-полудворняга, и в знак восторга прошелся даже по-цирковому на передних лапах.
После обеда, проведенного в веселой болтовне с Валентиной Сергеевной и Ольгой, Андрей Николаевич взял с собой стакан чаю с лимоном, прошел в тихую спальню, где стоял его письменный стол, и вынул из ящика три толстые, переплетенные в ситец тетради. Еще со времен землянок и палаток, когда, по собственному выражению Андрея Николаевича, он не понимал здесь ни бельмеса и с толмачом ходил на буровые, Сафронов вел дневник. Вел нерегулярно, то увлекаясь и записывая все подряд, то забрасывая чуть ли не на год. Последнее время, особенно после XX съезда партии, записи стали щедрее, полнее, перемены, вдохновившие всю страну, отразились и на дневнике небит-дагского инженера. Именно теперь вдруг прочертилась для самого Андрея Николаевича на этих пожелтевших страницах история его собственной жизни и, даже больше того, история его удивительного времени, записанная от случая к случаю, не для печати, и потому особенно живая. Тут были вперемежку цифровые записи, характеристики людей, поговорки, словечки, иногда просто перевод фразы с туркменского на русский. Андрей Николаевич всегда удивлялся, услышав в туркменском или татарско-тюркском разговоре слово, которое привык считать исконно русским, и он записывал эти слова — топчан, балык, епанча, диван, бирюза, амбар…