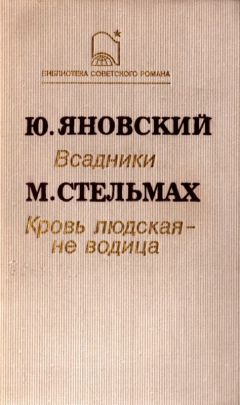Данило Пидипригора сходит с дороги и шагает прямиком, через болото: так намного ближе домой, да и если Погиба с Бараболей вздумают за ним погнаться, они не отважатся пойти сюда.
В стороне, должно быть в просе, крикнула куропатка, на ее голос откликнулись еще две птицы, под ногой тихо пискнула вода, земля под тяжестью тела прогибается. Хорошо, что как раз встает месяц, накладывая светлые мазки на неясные очертания туч. Эти мазки легли и на маленькое темное озерко. Запахло ядовитой беленой, ржавым болиголовом, кислыми корнями. Все уже и уже на болоте цепочка следов, она переходит в щелки, затянутые травой, вскоре и они пропадают, и чистая зеленая подушка то и дело поддается, прорывается под тяжестью человека. Тогда спокойно вытаскивай ногу и, не останавливаясь, иди вперед.
Справа, словно по волшебству, раскрылся круглый, ровный плес. Месяц наполовину пропахал по нему зеленоватую борозду, а вокруг такая глубокая тьма, будто кто настоял эту воду на черном камне. И птицы тут черные, они расклевывают лунную дорожку, моют в ней крылья.
Данило задумчиво обходит озеро, на котором все шире пашет месяц, а утки даже не оборачиваются на шаги человека: очевидно, их давно никто не пугал. За вторым плесом он по кочкам обходит «волчью пасть» — окно, затянутое болотной кашкой и цветами, — протискивается в заросли волчьего лыка, которое уже нарядилось во все свои сережки, и снова натыкается на едва заметные следы.
Наконец, весь грязный, мокрый от росы, он выходит на твердый берег, на землю своего детства, ибо теперь у него нет своей земли. Дрожа, он срывает с головы чужую шапку и потными, солеными губами припадает к жнивью. На лице его смешались роса и слезы.
— Земля, прости меня за все! — И он крепче прижимается к ее груди.
Земля слушает его и молчит.
Он недолго ждет ответа, мысли его летят к людям. Данило встает, отяжелевшей рукой вытирает лицо.
Вот он и встретился с родной землей, со своей надеждой и тревогой. Немало людской крови пролито за нее, а станет ли она от этого краше, станут ли краше люди или еще больше озлобятся в своей нужде и невежестве? Он искалечил себе жизнь ради этой земли, так пусть хоть другие не уродуют жизни.
Впереди, в глубине ночи, машет веселыми крыльями высокий ветряк; над ним, как жернов, поднимается месяц, облака вокруг совсем белые, словно лебеди; он никогда ее видел среди ночи таких чистых облаков, никогда бы не подумал, что способен так разволноваться при виде простого ветряка, этой доброй птицы, которая тянется крыльями и к земле и к месяцу.
Недолго думая, он идет прямо к ветряку. Кого же первого встретит он из односельчан? Узнают ли его? У ветряка нет ни одной подводы, ни одной клячонки. Это удивляет и радует Данила: значит, сегодня не завозно. Под свист крыльев он поднимается по скрипучим ступенькам наверх, отворяет легкую дверку.
Возле мучника краснощекая молодка дощечкой выбирает в мешок муку. Неподалеку от нее на чурбаке в стареньком глиняном горшочке мерцает светец, отбрасывая свет на красивое в своей задумчивости, горбоносое, с тяжелыми бровями лицо молодого паренька. Он сидит на мешке, смотрит на игру пламени, и даже это юное лицо от извечных крестьянских дум выглядит замкнутым.
— Добрый вечер, — тихо здоровается Данило.
— Доброго здоровьица, — скороговоркой отвечает молодка, метнув на гостя стремительный взгляд, а паренек, поднявшись с мешка, кланяется и снова садится.
Кого он так напоминает из знакомых? Ага, так оно, верно, и есть, это сын Тимофия Горицвита. Такой же нос, такие же русые волнистые волосы, такая же задумчивость.
— Мелешь, парень? — подсаживаясь, заговорил Данило.
— Нет, я уже смолол. Тетку из Майдана жду, а то она одна боится домой идти. — Юноша кивнул головой на молодую женщину, едва заметная улыбка шевельнула его нижнюю, чуть вогнутую губу.
— На плечах муку понесете?
— На плечах и на спине.
— Тяжело?
— Было бы что нести! — Парнишка вскинул на Пидипригору умные печальные глаза.
— Как тебя звать?
— Дмитро.
А землю у вас уже делят?
Лицо паренька оживилось.
— Завтра должны начать.
— И ты получишь тоже?
— Как и люди. — Тихие огоньки вспыхнули в его печальных глазах.
— Любишь землю?
— А как же ее не любить? — Он резко, всем телом, обернулся к выпачканному в тине незнакомцу. — Скотина и та ее любит, губами каждую былинку целует, а что уж про человека говорить!
И Данилу вдруг открылась замкнутая душа подростка, жившая тоже только одной мечтой — о земле. И Данило почему-то ощутил, что перед ним не простой паренек, а хозяин земли, ее, а может быть, и его, Данила, будущее.
— Папа, папа, кто-то барабанит в окно! — дрожа, теребит спящего отца девочка лет десяти.
Она первая в хате услыхала стук, сползла в одной рубашонке с кровати и с ужасом увидела на залитом сиянием окне руки и голову незнакомца.
— Василинка, это ты? Чего не спишь?
Отец, проснувшись, поднимает ладонь к детской головке и вдруг, сорвавшись с постели, схватывает дочку и прячет в темный угол, за сундук. Оттуда он осторожно выглядывает и в страхе замечает, как по стеклу, словно в дурном сне, движется тень шапки и руки. Василинка забивается под локоть отца, шепчет ему в рубаху:
— Не бойтесь, это не бандиты: бандиты уже выламывали бы окна…
— Ой, что ты понимаешь!
Он обнимает зябнущее тельце своей единственной дочки, прижимает ее к себе и не знает, на что решиться. Мысли бешено мечутся и рвутся на полпути, как гнилая паутина.
«Может, забиться в яму, под печь? Или выскользнуть в сени, а оттуда на чердак?.. А Марта как же?» — наконец вспоминает он о жене, но тут же забывает снова, и мысли переносят его на чердак, где можно оторвать снопок и бежать от беды в лес.
— Слышите, зовут вас? — Василинка чутким ухом уловила произнесенное за окном имя отца.
Пидипригора напрягает слух и в самом деле слышит словно бы знакомый голос…
— Мирон, отопри, это я… Мирон…
— Говорила же я — не бандиты, — шепчет девочка.
— Мирон, Мирон… — доносится голос из-за окна, рождая волнение в груди.
«Свят, свят! Неужто это Данило? Откуда ж он взялся?» Мирон и обрадован и испуган: не смерть пришла к нему, но и не радость.
Больно ударившись плечом об угол сундука, он выходит на середину хаты, присматривается, прислушивается, потом резким движением припадает к окну.
— Данило, ты?
— Я, брат, — доносится взволнованный шепот; за окном приплюснутое к стеклу лицо, вовсе не напоминающее того Данила, которым так гордилась вся семья.
Сбивая с ног Василинку, Мирон выбегает в сени, дрожащими руками отпирает деревянные задвижки, рвет на себя дверь и тяжелым крестом падает в объятия младшего брата. Тот прижимает его к груди, целует в колючие усы, потом охает и, беспомощно цепляясь за него руками, опускается на колени.
— Бог с тобою, Данило, встань! Я тебе не отец и не судья.
Мирон поднимает с земли обмякшее тело брата. Он уже понял, что сталось с Данилом и что его ждет, не знает только, как же теперь быть Олександру и ему.
Данило кладет руки брату на плечи, и оба долго всматриваются в глаза друг другу, даже не замечая, что с порога, прикрывая разрез сорочки, удивленно смотрит на них маленькая полная девочка. Она догадалась уже, что это откуда-то вернулся к ним ученый дядя Данило, но почему он поклонился в ноги отцу, почему в глазах у него, как у ребенка, дрожат слезы, — это странно и непонятно. «Но у взрослых многое странно и непонятно», — подумала она. Быть может, так и надо, когда приходишь к кому-нибудь в гости, она и сама теперь так поступит, когда в воскресенье придет к тете Гале.
— Пойдем же, брат, ко мне, — показывает Мирон рукой на сени.
И Данило тут только замечает на пороге прислонившуюся к косяку девочку в белом.
— Василинка, это ты? — И он протягивает к ней руки, с которых осыпаются песчинки.
— Я, дядя Данило. — Она несмело глянула на него и опустила голову.
На миг он увидел перед собой маленькую красивую смуглянку — свою покойницу мать; она, верно, передала все свои черты этой большеглазой девочке, которая, очевидно, тоже не будет высокой и порадует глаз не фигурой, а лицом. И он улыбнулся самому себе: для чего забегать вперед? Очевидно, это мужская особенность — так видеть красоту.
Данило целует Василинку в голову и поспешно ищет в карманах хоть какой-нибудь гостинец, но там только разные пустяки, оружие да патроны. Был бы мальчуган, он бы и патронами мог поиграть, а вот девочке нечего подарить, ничего он не нажил за два года войны. И это единственная его заслуга в петлюровской армии — он и пальцем не тронул чужого.
Данило подымает девочку на руки, прижимает к груди. А той становится весело и немного стыдно; отец видит, как ее ласкают, а это уже нехорошо. И она тихо просит: