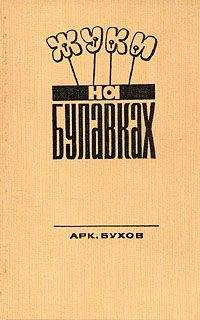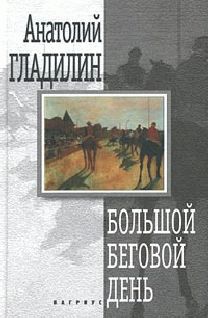– Можете написать что-нибудь этакое?..
– Какое? – испуганно спросил Вася, опасаясь срочного заказа истории коммунального ассенизационного обоза в бодрящих певучих стихах для очередного номера.
– Ну, вот такое, – с трудом выдавил из себя редактор, – лирическое…
От неожиданности в Васиных руках распалась уже готовая самокрутка. Уже около двух лет тайком от неумолимой замойской общественности Вася писал лирические стихи. Он писал о летчике, который потерял мистицизм, в первый раз врезавшись в облака, о комсомолке, обсадившей цветами ясли, о старике, плакавшем под песни молодежи. Но так как в стихах не было ни точных цифр о средней яйценоскости в Замойском районе, ни конкретных цитат о конском поголовье в уезде, то с каждым новым стихотворением Вася чувствовал себя, как закоренелый преступник. И вдруг сам редактор «Замойского катушечника», уныло посасывая левый кончик бороды, открыл шлюз Васиной души.
– Ну, что же, можете?
– Могу, – робко уронил Вася. – А насчет чего лирическое: насчет союза швейников или, наоборот, насчет борьбы с малярией?
– Обыкновенное, – сухо отрезал редактор, – с любовью. Со звездами. Со скамейкой, с птицами и вообще. Завтра принесите подробный план. Одобрим – пишите.
Целую ночь Вася сидел у себя за перегородкой и набрасывал план лирического стихотворения. В голове, как вспугнутые воробьи, мелькали отдельные строки, луна наседала на тюльпаны, соловей мешался со скамейкой, волна догоняла затаенный вздох. Но над всем, как утюг на веревочке, висело директорское распоряжение о плане, и, сдерживая необузданные взлеты творчества, Вася писал на листке из блокнотика аккуратные, пронумерованные строчки плана:
1. Сидение на скамье.
2. Смотрение на луну.
3. Нюхание цветов.
4. Держание за руку.
5. Говорение слов.
6. Любовь как таковая.
7. «И ты ушла, и я ушел, и оба мы ушли».
На другой день редактор недовольно и кисло смотрел на Васю Грибакина и вертел в руках представленный ему план, делая на нем пометки большим синим, тупо очинённым карандашом.
– Вот вы пишете: «Сидение на скамье». Так. Скамью, конечно, в искусстве можно ввести, не протестую, но кто именно на ней сидит?
– Он, – вздохнув, ответил Вася и значительно тише добавил: – И она тоже. Двое.
– Цифровое обозначение здесь ни при чем, – остановил его редактор. – Здесь важны социальные корни. А может, это бывший архиерей и вдова генерал-губернатора на скамью уселись?
– Они же старые, – робко защитился Вася.
– Ну, как знать, – подозрительно посмотрел на него редактор, – а может, они еще сохранились. В соку еще. А вы их в советском стихотворении на скамью садите.
– Так у меня же не они сидят…
– Вот, вот. Значит, надо, чтобы все было ясно, что, мол, сидят на скамье активисты. Люди с хорошим профстажем, членские взносы платят аккуратно, общественную нагрузку несут…
– Это же сколько строк? – безнадежно мигнул Вася. – Сначала о нем, потом о ней…
– На то и лирика. Поэт все должен уметь. Техника стиха… Значит, сделайте вы его… ну, скажем, текстильщиком… Впрочем, нет. У них в облотделе что-то неладно. Пусть он будет у вас счетоводом, сдавшим годовой баланс за две недели до срока. Слышите? Запишите, чтобы не забыть.
– Записал.
– Такой человек и на луну немного посмотреть может, и цветок понюхать имеет право… Да что там говорить, – теперь не восемнадцатый год, пусть уж и птицу какую-нибудь послушают. Только остерегайтесь соловья.
– А она?
– Она – дочь станционного кассира, – уже увлекшись, говорил редактор. – В лирике давно не было попыток разрешить узловые проблемы транспорта… Об отце можете всего несколько строк и то только в связи с недопогрузкой вагонов… Не утяжеляйте особенно лирические строки. Лирика должна быть легка и певуча… Вот тут у вас есть пункт четвертый: «Держание за руку». Это выбросьте.
– Почему?
– Неудобно. Вдруг ему на собрание месткома надо идти, а она его за руку держит. Лирика лирикой, а срывать общественную работу на глазах массового читателя неудобно… Вот и второй пункт философски неясен: «Смотрение на луну»… С одной стороны, конечно, луна – общественное достояние, но почему именно на нее? Вечер советский работник должен проводить культурно. На луну он может днем посмотреть.
– Да ведь вечер же…
– Мало ли что вечер! В городе музей сельскохозяйственной культуры открыт, а они на луну пошли смотреть. Бестактно. Как-нибудь уж выкрутитесь: шли, мол, в музей, но пошел дождь, вот они и сели, между прочим, на скамейку…
– Хорошо.
– А то и совсем этот пунктик выкиньте. Пункт шестой – «Любовь как таковая» – тоже, пожалуй, не надо. Не стоит. Не ко времени как-то. Кампания по сбору утильсырья на носу, а вдруг мы в литстраничке о любви разведем волынку. Пройдет кампания – тогда другое дело. Вот этот пункт: «Говорение слов» – оставьте. И даже расширьте. Углубите его. Пусть он несколько слов о фотокружке на предприятии скажет, она, допустим, его проинформирует насчет, ну там, целевых сборов, что ли, или насчет кассы взаимопомощи… Любящие ведь люди, надо им поговорить о чем-нибудь личном, интимном. Лирика ведь… А вот конец у вас удачный: «И ты ушел, и я ушла». Только не забудьте указать конкретнее, куда именно ушли.
– А куда? – хрипло спросил Вася.
– А это уж куда хотите. Вы поэт. Я не хочу стеснять свободу творчества. Я против всякого администрирования. Укажите, что он, мол, пошел сводить контрольные цифры, а она тоже куда-нибудь. Ну, скажем, «Малую советскую энциклопедию» дочитывать… Ясно? Берите ваш планчик. Только, пожалуйста, завтра к утру и не больше шестнадцати строк…
Всю ночь Вася Грибакин писал и плакал. Через четыре дня в литстраничке «Замойского катушечника» под общим заглавием «Дорогу лирике!» появилось стихотворение Васи Грибакина:
Вперед
Не было скамейки и луны,
Не было цветов и соловьиной трели,
Не были друг в друга влюблены
Счетовод Петров и дочь кассира – Нелли…
Он сказал: «Я кончил свой доклад»,
А она ответила: «Прекрасно».
После этого пошли они назад,
Оттого, что стало все им ясно.
В центральных изданиях писали о том, что нужна лирика.
– И действительно, пора, – убежденно сказал редактор «Замойского катушечника». – Лирика – это великое дело… Мы-то первые откликнулись…
1934
Рядовой клубный концерт обычно организуется в порядке катастрофы. Накануне вечером о нем известно только одно: что он на сегодня отменяется. После этого утром взлохмаченный завклуб появляется в шумных и неаккуратных коридорах гомцеобразного учреждения с видом человека, за которым гонится взбешенный носорог.
Стол заказов разыскать не легко. Вчера он еще был в третьей комнате, между печкой и плевательницей около окна. И сидел за ним унылый мужчина с висячими усами и обидно большой бородавкой у носа. За ночь плевательницу унесли, окно заняла комиссия по проверке текстового оформления цирковых тюленьих номеров, стол заказов вынесен в коридор, и за ним уже сидит маленький человечек в белых туфлях и рыжей кавказской папахе.
Маленький человечек уже знает заранее, почему у зав-клуба мутный взгляд и что ему здесь надо.
– Вы хотите иметь один срочный концерт для клуба? – успокаивающе спрашивает он. – Вы будете иметь один срочный концерт для клуба.
– Да, но видите ли, наш клуб – это такой клуб, который…
– У всех такие клубы и у всех они которые, – равнодушно жует бутерброд человечек за столом. – Вы будете от нас иметь одного баритона – один, одну – колоратуру – одна, двух сатириков – два, одну водевиль – одну… Итого, вместе с аккомпаниатором, не считая конферансье, плюс проезд – шестьсот рублей…
– Шестьсот не могу, – вздыхает завклуб, – зарез.
– Так имейте в другом месте ансамбль без зареза. Что значит зарез? Я вам сказал шестьсот, и пусть это будет твердо. Пятьсот тридцать с конферансье. Саша, – обращается он к кому-то сзади себя, – кто у нас свободен из конферансье?
– Цапин занят, Драпин занят, – раздается из-за отдаленной стенки с плакатами монотонный Сашин голос. – Хапин на шести концертах…
– Подумаешь, Карузо. Он же не танцует, а разговаривает. Поговорит и на седьмом. Имеете первоклассного конферансье, товарищ клуб.
Сговариваются на четырехстах сорока минус проезд.
Днем ансамбль лихорадочно подготавливается к концерту. У стола заказов начинается тяжелая, но бесполезная дискуссия.
– Нынче к транспортникам? – осведомляется баритон.
– А если наоборот – к металлистам, так вы не Тореадора будете петь, а Кармен? – сердито откликается человечек за столом. – Что это за ария в посевную кампанию?
– Не я писал, – обижается баритон. – Бизе писал…
– Бизе, Бизе… Когда сто рублей за выход получать, так каждый Евгений Онегин, а когда новую арию выучить, так все – Гугеноты…