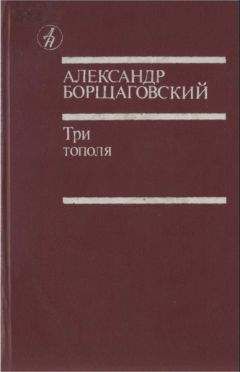Николай закурил сигарету «Памир», ступил в темноту, чтобы сбросить слегу с рогаток, и только было подумал о том, что однажды он приедет сюда с новой кинокартиной, а показывать ее будет некому — обезлюдеет Бабино, только было настроился на такой сочувственный и невеселый лад, как послышался шум и топот, бабинская ребятня вынесла слегу в сторону, и длинное тонкое дерево по-зимнему сухо ударилось оземь. Лошадь сама, без понукания, вошла в Бабино.
А ребятишки, судя по голосам, бросились врассыпную, к избам, криком поднимая уснувших.
— Кино приехало! — неслось отовсюду. — Николай кино привез! Николай приехал!
Бабино просыпалось торопливо, судорожно, будто поднятое великой радостью или пожаром. Прибавилось света в окнах, уличная темь загустела. Хлопали двери, скрипели на домашних кованых петлях. Ожила темнота — крики, беготня, переклик, и надо всем его, Николая, имя:
— Николай приехал! Николай кино привез! Никола, Никола!
Бабинцам было чему подивиться. С прошлой осени, придя из армии, Николай ездил сюда с картинами, — в три заокские деревни привозил он по часу-полтора радости на горючей, с аккуратными рядами дырочек, пленке. И сам он был аккуратный, пьющий, но не хмельной, длинный, в командирских сапогах, в пудовой бобриковой куртке на парадно развернутых плечах, в меховой, не поддельной, ушанке. Жизнь в Бабине хирела, не устраивалась, а на «кино», которые привозил Николай, она давно и как бы сама собой сказочно устроилась: бабинцам было и сладко и смутно видеть, что у всех-то других людей жизнь сложилась, — значит, придет и их черед.
Николай, парень из Кожухова, с высокого берега Оки, казался им человеком из чужой, устроенной жизни: всякую картину он смотрел по многу раз, знал ее наизусть, мешал зрителям трепом, шуточками, а то рассказывал им содержание погибших в долгом прокате кусков. Завелась у него женщина; и никто не ставил в вину холостому парню, что, оставаясь в Бабине в метель или гололед, он ночевал не в сельсовете, а у Любки Ермаковой. И ей сам бог велел хватать где что плохо лежит — жизнь у нее сложилась несправедливо: появился было на тесном бабинском горизонте молчаливый старшина родом из Белоруссии, расписался даже с Любой и затем исчез, оставив ей старый велосипед и Степана — сынишку, родившегося спустя полгода. Теперь Степану десятый год, а Ермаковой двадцать восемь, и никто не корил ее киномехаником, одного только не прощало ей Бабино, что всякий раз, когда механик оставался у нее, Люба отсылала мать и Степана к тетке. «Выкобенивается баба! — рассуждали бабинцы. — Мать-старуха, почитай, из ума выжила, а Степка, чай, не маленький; переспали бы себе на печи, никто бы не подох».
Так пролетела — на санях, в метелях — долгая лесная зима, а в мае Николай женился на кожуховской девушке: с самого паводка его в Бабино не видали. За Оку он теперь картин не возил — поменялся деревнями с напарником Володей, и Любы с последнего талого снега не встречал.
Восемь месяцев не был в несчастном Бабине Николай, и вот теперь, на въезде, защемило сердце, неспокойно стало, будто он провинился в чем-то, и не перед одной Любой Ермаковой, а перед всеми этими засуетившимися в ночной темени людьми.
— Николай! — шепнул из темноты детский голос.
— Степка?! — Как не узнать этот голос: тонкий, напряженный даже в шепоте. — Ко мне иди, а то не угляжу тебя.
Степан приблизился. Николай положил было руку ему на плечо, мальчик увернулся. На нем было зимнее пальто, по жестяной, ломкой листве шаркали валенки.
— Ты зачем приехал? — спросил мальчик.
— Кино привез.
— А Володя?
— Умер, — беспечально сказал Николай.
Мальчик остановился, в голосе его прозвучала недетская горечь и страдание.
— Врешь ты все. И зачем ты только врешь?
— Положим, вру, — охотно согласился Николай. — Володя на курсы уехал, а мне жалко вас стало. Вот и приехал.
Степан хмыкнул:
— Ты пожалеешь!
— А кто другой? — бодро спросил Николай.
Справа, за темным крупом лошади, едва проступала подновленной дверью и светлыми наличниками изба Любы Ермаковой.
— Никто, — тихо сказал Степан.
— Наличники новые присобачили, — заметил Николай. — Кружевные. Живете!
— Живем, — откликнулся мальчик. — Мы с мамкой хорошо живем.
— Кто резал?
Степан не ответил. Чего попусту языком трепать, механик и сам знает: когда-то в каждой второй избе и плотники и резчики жили, а теперь на все Бабино один мастер остался.
— Серафим резал, — сказал Николай. — За деньги?
— За красивые глаза, — огрызнулся мальчик. Он знал, что лысый плотник Серафим и Николай не любили друг друга. — А можно и за деньги. У нас с мамкой денег хватает.
— С чего ты злой? Или в школе нелады?
Уже вокруг шумели люди, окликали Николая; у клуба, куда свернула лошадь, затарахтел движок, Степан понял, что еще минута, и дела отнимут у него механика.
— Я в школу не хожу!
— Бросил? — поразился Николай; свет должен был перевернуться, если Люба позволила сыну бросить школу. — А Люба?
— Чего ей? Как я скажу, так и будет. Я и курить стал.
Чиркнула спичка, вспыхнул огонек, высветив тонкие пальцы и недоброе лицо мальчика: он закурил.
— Ладно! — рассердился Николай и хотел отнять у Степана сигарету, но тот больно ударил его по пальцам, и не рукой, а палкой, которую он прятал в валенке.
Огонек сигареты заметался в темноте, подпрыгивая и сникая, и пропал.
2
Все Бабино сошлось на сеанс: был тут и головастый Серафим с венцом седой кудели вокруг лысины, и древние старухи в черном, и Степан, а Люба Ермакова не пришла.
Поначалу механик обрадовался, что ее нет и не придется отводить взгляда от ее тревожных, темных глаз. он повеселел и, отрывая билеты, потряхивая монетами на широкой ладони, донимал бабинцев не новыми, но не приедающимися почему-то шуточками: не оттого ли нарекли их сельцо Бабином, что мужики, чуть только вобьются в разум, бегут отсюда? Какой трудодень положил сегодняшний год бабинцам леший? И много ли свадеб сыграли они? Как убрались и сложили в закрома еловые шишки?..
На него не обижались, знали, что об их нужде он говорит по-доброму, без злобы, а то, что Люба Ермакова не пришла, само собой решало и частный спор механика с Бабином: кончилось, значит, оборвалось, да и то сказать, что плохого сделал ей Николай? Чего искала, то и нашла. Он ее не обманывал и в жены взять не обещал, да и не могло того быть: ведь Люба на четыре года старше механика, и при ней Степка, такая копия сбежавшего старшины, что если кто и позабыл его личность, то, глядя в круглое лицо мальчика, в круглые, светлые, до пугающей стеклянной прозрачности глаза, тут же непременно и вспомнит.
— A-а, прибыл механик! — отметил с притворным удивлением Серафим. — Обратно кино рвать будешь?
— Порвем, отчего же не порвать. Сами порвем, сами и склеим. Техника на грани фантастики!
Это звучало как вызов, и первым делом плотник отдернул руку с зажатыми в корявых изрубленных пальцах монетами, которые он собрался отдать за билет.
— Грамотей! — хмыкнул Серафим. — Грань дитя малое знает, а ты скажи, что есть филигрань? Ась?
— Не купишь, дядя! — отозвался Николай после мгновенного раздумья. — Хитер бобер, что в лесу живет, я тебе про технику, а ты про филина.
Отбился механик; шуточкой, дуриком, а отбился, и люди кругом смеются. Хоть и не прав, а его — сверху.
— Так, — сказал Серафим. — Не знаешь. А Володя знает.
— Володя все знает, — ревниво ответил Николай. — Голова от книг усохла, оттого у него третий год дети не родятся.
И снова его сверху: в Бабине Володю любят, уважают, но и острое слово тут в цене.
— Насчет детей, — раздался из угла женский голос, — и тебе, Николай, еще оправдаться надо. Покуда ты и за беглым старшиной не поспел.
— То старшина, а он солдат, — предательски вступился за Николая Серафим. — С солдата какой спрос.
Теперь смеялись над ним, да еще над мальцом, который съежился, собрался в комок, растянув в гримасе тонкий рот и яростно нажимая подбородком на спинку стула.
— Станет Ока, приезжайте по льду жену поглядеть, — хвастливо сказал Николай. — К рождеству оформится, и слепому мою работу видать будет.
Серафим до поры стушевался, на механика дружно накинулись бабы:
— Малолетку любой обротает!
— С солдаткой докажи, с бабой, которая на ходу.
— Надоели мне бабы во как! — ответил Николай, весело взметнув руки с зажатыми деньгами и билетами.
— Ты налима голой рукой возьми!
— Пустяк дело… Брал!
— Концы! Концы! — закричал Серафим, при каждом слове делая странный жест: большим и указательным пальцем он проводил от уголков рта вниз, к голому подбородку, будто поглаживая усы и бороду. — Концы! Фантастика, говоришь? Ладно, а что есть кино? Вот ты ездишь с ним, а что оно такое?