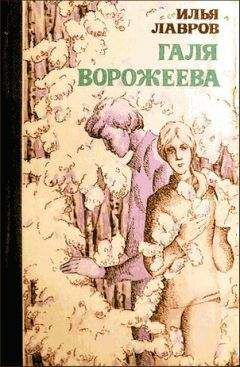Галя попросила Стебля:
— Ты иди, пожалуйста, домой. Мы еще поговорим об этом. А сейчас я и не знаю, что тебе сказать.
И Стебель покорно ушел…
29
…Ребята притащили для девчат стулья из парикмахерской, а сами устроились кто на подоконнике, кто на чемодане, а кто и на мешке с картошкой.
Маша принесла с собой двухлетнюю сестренку Катьку, такую черноглазую, румяную и щекастую, что всем хотелось потискать ее. Отец с матерью уехали в город, и ее не с кем было оставить.
Маша сунула ее Тамаре, и та устроилась на шаткой раскладушке. Галя дала девочке деревянную матрешку. Катька была такая же пестрая: голубая фуфаечка, красные шароварчики, зеленые валенки.
— Вот здесь пусть и будет наш штаб! — сказал Стебель. — Здесь можно обо всем поговорить.
— И побриться! Кто последний, я — за вами. Тамарка, бери кисточку, — балаганил Шурка.
— Я тебя обдеру тупой бритвой!
— Галина! Ты в это оконце деньги, что ли, получаешь? — спросил Шурка.
Люся Ключникова посматривала на всех чуть усмехаясь и явно скучая здесь. Она даже пальто не сняла, белую пушистую шаль не сбросила — сидела, как будто пришла сюда случайно, мимоходом. В свои двадцать один год она чувствовала себя уже старой для комсомола и тяготилась им. И потом, она не выносила все, что пахло газетой, всякими лозунгами, собраниями, трибунными шаблонами и штампованными мыслями. А именно всем этим, по ее мнению, страдал комсомол.
Маша села за Галин стол.
— Ребята, повестка такая: «Учеба молодежи» и «Чем мы можем помочь совхозу зимой». Но сначала давайте обсудим одно письмо.
За окном уже темнело, в него бил косо летящий снег. Где-то в дупле дремал дятел, на снегу валялись его шишки, в окошечко из парикмахерской негромко доносилась музыка. Она не мешала, с ней было душевнее.
— Вы знаете, что после очерка в газете к нам приходит много писем от ребят и девчат, — сказала Маша. — В некоторых письмах они просятся к нам в совхоз. А вот вчера прилетело совсем иное письмо.
Вытащив его из кармана темного шерстяного платьица, она стала громко читать: «Ребята! Наткнулась я в газете на очерк. Рожок прямо на всю Сибирь-матушку восторженно протрубил о вас. Слушайте, ведь все это притворство, поза, треп! Кого вы хотите уверить, что ишачить на тракторе — интересно, что вкалывать в совхозе — дело молодых?»
— Ух, ты! Как начинает! Сразу в драку, — одобрил Шурка.
«Самое дорогое у человека — это жизнь. Поняли? Она дается ему один раз… А вы что нам предлагаете? Выбросить свою молодость коровам да свиньям? Рыться всю жизнь в навозе? Нет уж, спасибо!»
Люся зашевелилась, усаживаясь поудобнее. Она прикрыла лицо шалью, виднелись только ее глаза.
«Есть изречение: „Человек создан для счастья, как птица для полета“. Но ваше „совхозно-колхозное“ счастье едва ли кого обрадует. У вас, ребята, все как-то вверх ногами. Я работаю для жизни, а вы живете для работы. Только нет, не верю — вы лицемерите. Неужели вы будете утверждать, что лучше все время тащить тяжесть, чем идти без нее, выкармливать поросят, чем быть инженером, ходить в кирзовых сапогах, чем в нарядных туфельках?»
— Вот балаболка — блуждает в трех соснах, — раздраженно заметила Маша. — «Вас поднимают на щит, но вы слишком пахнете газетой, а во всех этих газетных героев я не верю. О, как они надоели и какие они все одинаковые! Я весьма и весьма сомневаюсь, что вы, такие вот, существуете, что вы, такие, не газетная выдумка».
В «парикмахерской» раздался хохот. Шурка потянулся с подоконника, потрогал Машино плечо, Тамаркину спину, дернул себя за ухо:
— А может, и правда нас нет?
«Но даже если вы и существуете, именно такие, я думаю, что мне веселее жить, чем вам, фанатикам долга. В долг я, кстати, тоже не верю — газета все, братцы, газета! Я считаю, что жизнь начинается после работы. Привет! Ада».
— Ада что надо!
— Отколола номер!
— И адреса, говоришь, нет?
— Чего обсуждать эту муть!
— Как это «чего»? — возразила Галя. — А может быть, мы и правда несчастные?
— Чего это тебе в голову взбрело? — сухо спросила Маша.
— А вообще-то, черт возьми, написано занозисто, — проговорил Шурка.
Катюшка, по коленям сидящих, перебралась к Маше, повисла у нее на шее.
— Смотря что считать счастьем! Если только деньги, хорошую квартиру, кучу платьев и безделье, то мы, конечно, не очень-то счастливые, — нервно заговорил Стебель.
Катюшка схватила Машу за нос, начала теребить его.
— Да ты что? — шикнула на нее Маша и ссадила на пол. Тамара подхватила ее, взяла на колени, прошептала:
— Не озоруй, разбойница!
На Тамаре была красная кофточка в черных цветах, и Катя, подумав, что это настоящие цветы, начала их нюхать, а потом даже попыталась сорвать их.
Стебель вскочил, обвел рукой комнату:
— Живет Галя в бывшей парикмахерской…
— И это плохо, — вставил Шурка.
— Денег у нее кот наплакал.
— А это еще хуже.
Стебель взглянул на Шурку сердито.
— Платьев у Гали раз-два и обчелся.
— Значит, по-твоему, счастье в нужде?
— А по-твоему, дом, например, может сделать человека счастливым?
— При чем здесь дом? — обозлился Шурка. — Но нельзя о нужде так говорить!
— А я и не оправдываю ее. Я о другом…
Как только Стебель заговорил о Гале, Машино лицо затвердело, стало неприступно-холодным. «Зачем он обо мне, глупый? — затосковала Галя. — Маша, наверное, уже ненавидит меня. Как я ненавижу эту самую… Люську». И Галя покосилась на Люсю Ключникову.
Если бы ребята знали, если бы они знали, что это письмо написала она!
Лицо ее было спокойным и даже равнодушным, но в душе ее горело злое веселье. Наконец-то она смогла все высказать этим «энтузиастам».
— Галина рассказывала мне, как она смотрела на свое первое вспаханное поле, — продолжал Стебель. — Да разве дойдет ее радость до подобных… Адочек!
— Слушай, Валерий! — рассердилась Галя. — Чего ты меня склоняешь? Как будто я этакий… показательный экземпляр.
Маша, не глядя на нее, усмехнулась. Гале захотелось вскочить и убежать куда глаза глядят.
— Ты, конечно, правильно говоришь, — лениво подала голос Люся. — Человек должен что-то делать. Но он должен и иметь необходимое: еду, одежду, жилье.
Гале противен был ее тягучий голос, ее бледное лицо с голубыми веками, ее пухлые и, как казалось Гале, порочные губы.
— Так мы к этому и стремимся, — заметила Маша, поднимая с полу Катю. — И люди уже в селах живут не зная нужды. Если, конечно, работают. И потом — какое же это счастье? Это необходимое для жизни, как стул и стол. Счастье — совсем другое дело.
— А я вот не испытываю никакого счастья, — продолжала Люся вызывающе. — И в то же время не чувствую себя несчастной. А просто живу нормально, не играя в этакий энтузиазм. Смотрю на жизнь просто, без телячьего восторга. — Она с легким презрением, свысока взглянула на Галю.
— И я не охал и не ахал над своим полем, — вставил Шурка.
— Быть счастливым — это ведь тоже… талант, что ли, — повернулся к Люсе Стебель. — Или свойство характера, что ли.
Маша зашипела на Катю, шлепнула ее. У девчонки обиженно поползли вниз уголки губ. Тамара, смеясь, бросила Маше свою фуфайку. Маша сняла с Катьки красные шароварчики, повесила их сушиться на синюю перегородку, а девочку завернула в фуфайку.
— Это Катюха дискуссии нашей не вынесла, — серьезно сказал Шурка, и все засмеялись.
— А вот ты, — Стебель ткнул пальцем в Люсю, — и ты, — он ткнул в Шурку, — вы смотрите на все скучно и трезво и видите, например, что осенняя рябина — это рябина. А Есенин сказал: «В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть». Открыв такой рябиновый костер, можно, пожалуй, и… подпрыгнуть от счастья. Земля в таких кострах сразу интересней становится.
Шурка даже руками развел:
— Ну-у, брат, это, действительно, нужен талант, чтобы этакое высмотреть! Ну, а если этого самого таланта у меня нет? Я вот сижу за рычагами трактора, и чем занят? Я начеку, чтобы плуг за мной шел, как дрессированный. Я грязный, словно черт, устал, жрать хочу, злой от всяких неполадок. Вот и все. Что ты с меня возьмешь? Стараюсь вспахать побольше и получше. А почему? Да чтобы деньжат подзаработать, — он сложил пальцы щепоткой, поелозил ими, будто ощупывая монету, — и, чтобы, ну, похвалили, что ли, вот, дескать, дает мужик. И все. А счастливый там я или нет, аллах один разберет. Ничего я такого-этакого не чувствую.
— Правильно и честно ты сказал, — поддержала его Люся.
Галя взглянула на малышку, что пригрелась у Маши на руках и уснула, и тихонько сказала: