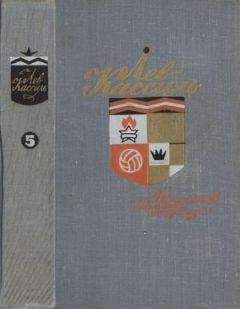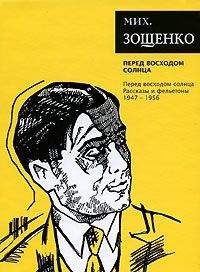К.»
Ответа не последовало, хотя, признаться, Коля и рассчитывал на него. Викторин после стычки у дуба во дворе не появлялся. А дня через два Женьча, встретив у дуба Колю, сказал как бы невзначай:
– Между прочим, я Викторину вчера разик приложил. Такое начал про тебя брехать… Ну, я ему и насовал.
– Не связывайся ты с ним, Женьча, пошлый он тип! Я же тебе говорил.
– Теперь я ходить с ним – крест навсегда! – подытожил Женьча.
Коля понял, что он окончательно одолел Викторина. Впрочем ему сейчас было уже не до этого. Совсем новая, каждый день несущая что-то вчера еще неизвестное жизнь поглотила его теперь.
Начались занятия в Художественной школе.
Учебный год школа начала уже в новом помещении. Можно было только мечтать, чтобы учиться там, куда сейчас переехала школа. Лучшего новоселья и представить себе нельзя было. Ведь школе построили теперь большой, многоэтажный дом в Лаврушинском переулке, как раз против Третьяковской галереи. Значит, после занятий можно было, перебежав узкий переулок, влететь в уже знакомые двери и очутиться за ними, в мире высокого совершенства, недосягаемых образцов, несравненной славы. И все это было тут, совсем рядом со школой, и словно говорило: «Ну-тко-си, вы, молодые! Для кого из вас придется потесниться?..»
Все нравилось в новой школе. Все казалось здесь значительным, исполненным какого-то большого и многообещающего смысла. Волновал запах керосина и масляных красок, которым в несколько дней пропитались классы старших. Они казались малышам недосягаемыми, заселенными мужами, уже постигшими высшую премудрость искусства: неспроста сыпали они в разговоре малопонятными выражениями, вроде «пленэр», «барбизонцы», «лессировка», «бидермайер», и сопровождали эти слова роскошным художническим жестом с отставленным и выгнутым большим пальцем, пластично – обязательно пластично – проводимым по воздуху. Пленил Колю и первый класс, в котором он начал науку. Здесь стояли удобные станочки, треножники, кувшины, накрытые цветными тканями, муляжи, изображавшие различные фрукты. Как и все новички, Коля не преминул попробовать их на зубок. В уголке была раковина с краном, откуда можно было взять воду для красок. В просторные, высокие окна верхнего этажа, где находился класс, глядело ничем не стесненное замоскворецкое небо.
И ребята, с которыми предстояло учиться, оказались подходящими.
Так как все были на положении новичков, то никто особенно не задавался, не хвастался чересчур, и Коля смог хорошо осмотреться в первые же дни. Он подружился с рослым, упитанным мальчиком, Егором Чурсиным.
– Ты что больше всего любишь рисовать? – спросил Егор у Коли, когда они оказались на одной парте в классе, где занимались общими предметами.
– Да я разное… – засмущался Коля и уже покраснел заранее. – Люблю историческое, если по композиции. Потом всякие типы. И, конечно, пейзаж, природу очень люблю.
– Я сам тоже больше видовой, – сказал Чурсин.
– Природу тоже важно как подать, – сказал Коля, вспомнив, что на этот счет говорил ему профессор Гайбуров, и желая показать себя соседу с лучшей стороны. – Природа и при старом режиме красивая была. А что толку! Кому она принадлежала? Не народу. А теперь – ему. Вот это надо передать…
– А я – зверист, – сказал крепенький, коротко остриженный мальчик, сидевший позади них, – у меня больше всего звери выходят. Я так и буду зверистом.
Но тут вошла учительница, и начался урок русского языка.
Первые дни Коля так краснел, стоило лишь кому-нибудь обратиться к нему, что учителя несколько раз спрашивали: «Дмитриев, ты здоров, у тебя нет температуры?»
Но температура у Коли была нормальная. А если его и лихорадило иной раз, то только от нетерпеливого желания скорее добраться до самого главного, до тех тайн и секретов, которые, как он надеялся, немедленно откроются ему здесь, в школе, где должны были выращивать художников. Его постигло некоторое разочарование, когда классная руководительница по специальности, уже хорошо знакомая ему Антонина Петровна, поставила задания почти такие же, как те, что он выполнял с ней летом. Получалось, что Коля просто продолжает уже привычные занятия, и в этом было для него что-то обидное. И опять слышал он, правда теперь обращенные не только к нему, но и ко всем его товарищам в классе, «чистяковские» советы: «Смотри два-три цвета вместе. Не гляди в точку, а рядом…»
Антонина Петровна, так же как дома, говорила здесь:
– Смотри и думай больше… Ну чем ты небо залил? Разве оно такое у горизонта? Неужели ты неба никогда не видел и только под ноги себе смотришь? Такое голубое оно только в зените бывает, а у горизонта оно светлее, более белесое. Встань, подойди к окну и посмотри.
Но она была здесь все же не совсем такая, как летом: более строгая, совсем не домашняя, немножко чужая, как показалось Коле. Незаметно было в классе, что она прихрамывает. Палочку свою она оставляла где-то в углу, обходясь без нее. И вообще Коля, который сперва даже испытал какое-то ревнивое чувство, теперь зауважал Антонину Петровну еще больше: она была тут учительницей всех, не только его одного.
– Ну как он у тебя стоит? Куда у него нога отъехала? – спрашивала она у мальчика, который называл себя зверистом.
В классе шел урок по композиции, то есть ребята рисовали не с натуры, а на заданную тему. На этот раз рисовали встречу Тараса Бульбы с сыновьями.
И Антонина Петровна продолжала:
– Если ты дерешься, разве ты так станешь?
– А я не дерусь, – отвечал зверист.
– Напрасно, – сказала Антонина Петровна, – иногда и подраться не мешает.
И Коля с восхищением прислушивался к тому, что говорит эта спокойная, серьезная женщина, которая, оказывается, понимает, что иногда следует и подраться. Впрочем, ему казалось, что Антонина Петровна слишком придирчива и, главное, не в свои дела вмешивается.
– Антонина Петровна, – спросил он как-то ее, когда писали с натуры акварелью, – я думаю, надо крынку сделать коричневе́е? Ведь она же тарелкой загорожена.
– Коля, Коля, Дмитриев! – ужаснулась Антонина Петровна. – Что это за ударения? Кто так говорит?
– Разве сейчас по русскому урок? – сдерзил было Коля при молчаливом одобрении класса.
– А по-русски надо всегда правильно говорить, на всех уроках, – строго заметила Антонина Петровна.
«Да, – вздохнул про себя Коля, – тут, видно, как и во всякой другой школе, не разгуляешься очень».
Часто заходил в класс быстрый низенький человек с очень сердитыми бровями. Движения и слова у него были отрывистые, суровые. Он подходил то к одному, то к другому ученику, бросал короткие взгляды налево, направо, хмурился, хмыкал про себя и, уходя, ворчал на ухо Антонине Петровне:
– Талантливые, чертенята! Балуете вы их. По головке гладите. А надо против шерсти. Нечего, нечего! Вижу. Балуете. А вот тот, белобрысенький… Как фамилия?.. Дмитриев? Занятно соображает. И видит верно. Только, пожалуйста, не балуйте. Я вас знаю.
Это был учитель – художник Сергей Павлович Михайлов. Человек очень знающий, влюбленный в свое дело и тщательно скрывающий, что он больше всего на свете любит талантливых ребят. Сперва Коля очень боялся его, но потом привык и только ежился немножко, когда чувствовал, что за спиной его стоит и смотрит на работу, наколотую на доске, сердито покашливающий, одобрительно хмыкающий художник.
И вдруг нежданно-негаданно пришло огорчение. На уроке по композиции были заданы рисунки к басням Крылова «Волк на псарне», «Волк и Журавль», «Трудолюбивый Медведь». Коля обрадовался этой теме, так как у него уже был некоторый опыт по части зверей, хотя он и не считал себя «зверистом». Ведь недаром он был этим летом завсегдатаем Зоопарка. Без особого труда, движимый каким-то легко пришедшим наитием, он раньше других закончил работу. Особенно удачным показался ему рисунок к басне «Волк и Журавль».
Но к концу недели, когда выставляли отметки, он получил по композиции тройку… И огорченная Антонина Петровна сказала, что совет школы нашел работы несамостоятельными, так как они целиком заимствованы у Серова.
– Я не срисовывал, Антонина Петровна, – дрожащими от обиды губами шептал Коля. – Неправда это! Мне даже не за себя обидно, а за Серова, что его так, значит, плохо знают. Нет у него таких рисунков!
Дома он обо всем рассказал папе и заставил его пойти вместе с ним в Третьяковку, а затем раздобыть книги и альбомы с известными серовскими рисунками. И оказалось действительно, что точно таких рисунков у Серова не было и Коля сделал свои композиции совершенно самостоятельно, как ему придумалось. Но он так любил Серова, так стремился следовать ему, что наизусть непроизвольно перенял множество линий, поз, штрихов, ракурсов, увиденных у любимого художника. И вот теперь невольно карандаш его свернул туда, куда влекли и впечатлительная память и давнее восхищение. Он уже не в силах был высвободиться из этого неотразимо заманчивого плена. Коля как умел объяснил все это Антонине Петровне, которая была огорчена не менее своего ученика.