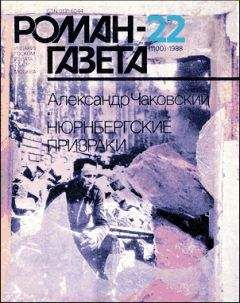— Но тогда… — начал было Адальберт.
— Спрашивай обо всем, что требует твоя душа, — щуря свои маленькие глазки, поощрил его патер.
— Отец мой, я все помню, все! Вы спасли меня в Берлине. Вы излечили мою душу от отчаяния и растерянности, вернули мне веру в свои силы и в будущее Германии. Вы возродили того Адальберта, каким я был до войны.
— Изменилось только твое лицо, — с усмешкой сказал Вайнбехер.
— И этим я обязан вам! Это спасло меня, позволило вернуться в Нюрнберг, снова соединиться с Ангеликой… Но теперь… — Адальберт осекся. — Теперь я в тупике.
— Когда человек оказывается в тупике, он обращается к богу или к его служителю.
— Спасибо, отец! — с неподдельной искренностью воскликнул Адальберт. — Но тупик, в котором я оказался, настолько безысходен, что даже бог…
— Не кощунствуй!
— Но вы просто не знаете…
— Я знаю все.
— Когда я вернулся домой, оказалось, что второй этаж моего дома занят…
— …американцем по имени Арчибальд Гамильтон.
— Верно! — воскликнул Адальберт. — Совершенно верно! Оказалось, что Гамильтон знает обо мне то, что могло знать только мое непосредственное начальство или… или вы, отец. Он предлагает мне, — идя в открытую, сказал Адальберт, — предлагает мне покинуть Германию и переехать в Америку…
— Пока в Южную Америку, — тоном учителя, исправляющего ошибку ученика, сказал Вайнбехер.
— Но я хочу остаться на родине! Хочу здесь бороться за восстановление Германии!
— Все в свой час, сын мой. Начать придется издалека и сызнова. В Южной Америке, в частности в Аргентине, уже находятся многие лучшие люди нашей с тобой Германии. Например, Крингель. Именно там будет создан политический и финансовый центр восстановления рейха.
— Но вы-то останетесь здесь! — пробормотал Адальберт, ошеломленный новостью о Крингеле.
— Я — везде, где идет борьба с безбожниками, — ответил Вайнбехер.
— Но почему именно я должен уехать?
— Потому что ты сильный человек и займешь там, в Южной Америке, подобающее место.
— А здесь, в Германии, остаются только слабые?
— Им нужно еще расти, набирать силу. Лучшие уже истреблены или будут истреблены на другой день после приговора. И тогда оставшимися будут руководить люди оттуда.
— Но разве Гамильтон, разве американцы заинтересованы в возрождении национал-социализма?
— Они христиане, а значит, они с теми, кто борется с врагами господа. Ты меня понял?
Да, Адальберт понял. Вайнбехер повторил то, о чем он сам не раз в последнее время задумывался, о чем говорили и Браузеветтер и Гамильтон: национал-социализм — враг большевистской России, а значит — союзник той Америки, которая, не упуская ни одной из своих выгод, жаждет создать антисоветскую Германию.
— Вспомни: когда ты был вызван в прошлом году в Берлин, от кого пришел вызов?
— От Кальтенбруннера. Крингель сказал мне в Берлине, что шеф собирается провести важное совещание.
— Ты знал его тему?
— Да. Речь должна была идти о ликвидации заключенных в концлагерях в случае приближения войск противника.
— Совещание состоялось?
— Да. Его проводил Крингель, Кальтенбруннер выехал куда-то по неотложным делам.
— Куда?
— Этого никто не знал. По крайней мере ни я, ни Крингель.
— Я знал, — лаконично сказал Вайнбехер. — Кальтенбруннер был в это время во Франции, он проводил сверхсекретное совещание в отеле «Мезон Руж». Там присутствовали люди почти со всех континентов. Темой совещания было обсуждение механизма рассеивания национал-социалистов… С тобой никогда никто не говорил на эту тему?
Вайнбехер смотрел на Адальберта испытующим взглядом. И вдруг Адальберт вспомнил: тогда, на Принц-Альбрехтштрассе, где полупьяные офицеры торопливо меняли одежду, чтобы не быть опознанными, набивали рюкзаки деньгами, золотом, кто-то прошептал прямо у него над ухом: «Кальтенбруннер приказал опускаться на дно…» Тогда Адальберт посчитал слова этого гестаповского офицера проявлением постыдной паники. Но сейчас…
— Я получил в свое время сигнал… но не придал ему значения, — повинился Адальберт.
— Я чувствую, что для тебя недостаточно советов Гамильтона и моих тоже. Считай их отныне не советами, но приказом. Приказом тех, кого бог сделал твоими руководителями.
— Значит, вы велите мне ехать, отец?
— Повелевает бог и передает эти повеления через верных слуг своих.
— Спасибо, отец, — тихо произнес Адальберт, понимая, что Мастер сказал все, что хотел или мог сказать. — Прощайте, я буду помнить о вас и о ваших словах вечно.
— Память человеческая слаба, но на твою память, сын мой, я хотел бы надеяться. — Адальберт поклонился и пошел к двери. И снова услышал голос Вайнбехера; как бы продолжая незаконченную тему, патер сказал: — Мы только что говорили о памяти, Адальберт. Ты надеешься на свою?
— Все, что связано с Германией и вашими советами… — начал Адальберт, останавливаясь и снова поворачиваясь к патеру, но тот не дал ему договорить.
— Ты спросил у меня все, что хотел? — Вайнбехер пристально смотрел на Адальберта.
— Да, теперь все, — несколько растерянно ответил Адальберт, думая при этом: «Ведь не о судьбе же нашего будущего ребенка, не о том, быть ему или не быть, должен был спросить я?» И вдруг вспомнил. Ведь он забыл посоветоваться с патером относительно самого важного — требования Гамильтона! — Простите меня, отец, — поспешно проговорил Адальберт, — вы, как всегда, правы. Я забыл спросить о главном: этот Гамильтон готов помочь нам уехать только при условии…
— Отдай! — сухо и властно прервал его Вайнбехер.
— Но, отец мой, вы же знаете, что по роду моей работы я имел… словом, у меня хранятся списки людей, которые помогали мне тогда… Агентура… В умелых руках она и сейчас может быть использована…
— Отдай! — еще более резко повторил патер. — Все попадет в надежные руки.
— А деньги? Я имею в виду денежные суммы партии, которые хранятся в швейцарских банках. У меня есть коды…
— Неужели ты разучился понимать меня, сын мой? — спросил Вайнбехер с оттенком неодобрения в голосе. — Ты требуешь от меня суесловия, а я предпочитаю краткость. Отдай! Ты понял?
…Они расстались.
Выруливая на лесную просеку, рябой на мгновение включил фары, их свет облил белоснежную виллу, и Адальберт на этот раз отчетливо рассмотрел рисунок на флаге. Это был красный крест.