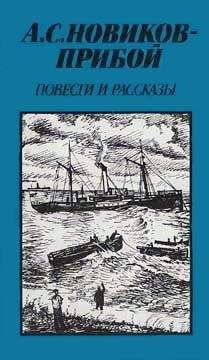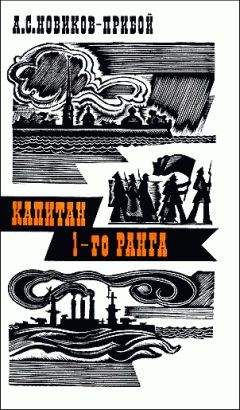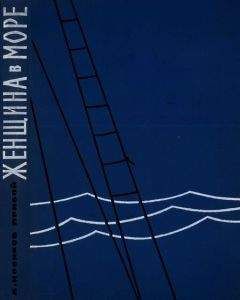Он надел ей на голову вторую пару слуховых трубок, посадил ее на диван и сам сел рядом. Скоро она услышала человеческий голос, говоривший что-то по-английски. Островзоров перевел ей:
— Сейчас будет петь под аккомпанемент рояля артистка мисс Крейтон.
Полилась мелодичная музыка, а несколько секунд спустя в нее вплелся женский голос. Таня слушала с трепетным волнением. Казалось, что звуки несутся не с берега, не за сотни миль, а кружатся и вьются в воздухе рядом, над крышей рубки. Мотив был печальный. Представлялось, что это не женщина, а чайка поет, летая над судном; поет и рыдает, оплакивая жизнь погибшего друга. Когда смолкла песня, раздались аплодисменты. Таня, возбужденная и сияющая, тоже похлопала в ладоши.
Потом были другие номера: веселые песни, комические сценки, струнный оркестр. Наконец запел баритон. Островзоров взялся переводить ей, но фантазировал свое:
— С тех пор, как встретился с тобою, мое сердце не знает покоя. Мое счастье в тебе. Ты для меня дороже жизни. Приди ко мне, моя желанная…
Таня сама не заметила, как прижалась к радисту. Приятно было слушать и баритон, распевающий где-то на берегу, и звуки рояля, опьяняющие голову, и слова своего друга, ласкающие сердце. Рука его легла на ее талию — она не протестовала против этого. От близости любимого мужчины синей далью пламенела душа. Золотистые глаза ее стали знойными. Радист, заглянув в них, понял все. Он знал, что женское сердце, словно море, имеет свои приливы и отливы. Таня как раз переживала прилив чувств. Он понял это и погасил электрическую лампочку.
А в это время недалеко от радиорубки стоял на рострах вахтенный матрос латыш Ян, успевший оправиться от ушиба. Он привалился грудью к спасательной шлюпке и, покуривая трубку, устремил взор в небосклон, усеянный яркими звездами. Ночь была тихая, с бодрящей прохладой. Хорошо было стоять здесь и думать о том, как он опять встретится в Англии с мисс Рейл, если только она не вышла замуж. Вдруг со стороны рубки, обрывая его мечты, донесся женский стон. Он обернулся, подошел ближе к дверям рубки, прислушался. А когда удалился, удивлению его не было границ. Зашептал тихо:
— Вот тебе раз… А мы-то, головотяпы, думали, что она с Бородкиным того…
На второй день каждому мужчине обязательно хотелось взглянуть на Таню. Для этого изобретались всевозможные предлоги. Она ходила бледная, стыдливо опустив ресницы. Сомнений ни у кого не было. Все обрадовались, все были довольны. В то же время к радисту, переживавшему торжество самца, как-то сразу охладели, а некоторые косились на него враждебно.
Над Бородкиным перестали смеяться. Он был мрачен, налился весь мутью. Все догадывались, что он дошел до той грани, когда человек не отдает себе отчета в своих поступках. От него всего можно было ожидать.
Хуже стало, когда один матрос, тараща глаза, таинственно сообщил о нем:
— При мне достал из сундучка финский нож. Попробовал на палец лезвие и в карман положил. Зарежет, дьявол!
— Кого? — спросили другие.
— Скорее всего радиста.
— Как бы и еще кого не пырнул.
Матросы испуганно переглянулись.
— От него станется. Дурак ведь. Выкинул Норда. За что, спрашивается, собаку погубил? Спишь ты и ничего не думаешь. А он тебе ножом в ребра…
Весть об этом перекинулась и в кают-компанию. Там тоже начали высказывать опасения.
Над судном нависла тревога. Все насторожились, ожидая кровавой развязки. Многие раскаивались в том, что затеяли эту опасную игру. Некоторые проклинали женщин: из-за них все бедствия на земле, а еще больше — в море. Беспокойство росло, нервировало всех.
Бородкин все больше и больше приковывал внимание к себе. Он ни с кем не разговаривал, погруженный в свои одинокие думы. Иногда веснушчатое лицо его становилось мрачно-торжественным, а провалившиеся белесые глаза, словно радуясь черным мыслям своей души, загорались зловещим блеском. В такие мгновения он был страшен.
В кубрике кочегары свою половину запирали на ночь на крючок, а во второй половине, где находились верхнепалубные матросы и сам Бородкин, никто не мог как следует спать. Тогда, посоветовавшись между собою, решили устроить тайное дежурство. Тот, чья наступала очередь, брал книгу и просиживал с нею за столом всю ночь.
Тут же, не раздеваясь, лежал на койке и Бородкин. Глаза у него постоянно были открыты. Когда он спал? Окутанный непроницаемым мраком молчания, он только на время забывался в полудреме и тогда стонал или скрежетал зубами, наводя ужас на дежурного.
Когда бросили якорь в английском порту, на судне стало легче жить. Бородкин все время проводил на берегу, пьянствовал с продажными женщинами. За него охотно несли вахту другие, говоря:
— Пусть погуляет. Может, очухается парень.
Пока «Октябрь» нагружался углем, для Тани наступили самые счастливые дни. Она теперь отправлялась в город только с радистом. Ни одного вечера они не пропустили, чтобы не посетить мюзик-холл.
Возвращалась она на судно ликующая.
XVI«Октябрь» возвращался к себе на родину, широко раскинувшуюся за двумя морями. Днем пришлось пробиваться через муть рассвирепевшей погоды. Налетая, рвал сизокрылый шквал, били гребнистые волны, поднимаясь выше бортов. На палубу вкатывалось невероятное количество воды, и весь корпус содрогался, когда над судном, словно горные реки, проносились буруны, А к вечеру в воздухе разлилась тишина. Небо загустело тучами, расползающимися, как тесто. Наступила ночь, накрыла море непроницаемым мраком, словно огромнейшей звериной шкурой. Пароход отмерял морские мили, плавно раскачиваемый мертвой зыбью. Было тихо, и только за бортами, словно в бреду, тяжело ворочались бездны, издавая глухой рокот. Вахтенные на мостике, напрягая зрение, вглядывались вперед. Тьма, всегда скрывающая в себе что-то внезапное, заставляла их настораживаться. Навстречу замерцали два топовых фонаря неведомого судна, а потом всплыл красный огонь. Это означало, что пароходы расходились левыми бортами. Скоро огни скрылись за кормою.
В рулевой рубке, у штурвала, стоял матрос. Кругом было темно. Только у компаса, прикрытого картонным колпаком с небольшим отверстием для наблюдения, горела электрическая лампочка. Рулевой напряженно согнулся, упер глаза в медный котелок, в картушку, разбитую на румбы и градусы. Это был Максим Бородкин. Он старался думать о служебных обязанностях, а мозг рождал безнадежные мысли. Таня изменила ему, бросила навсегда. И все это наделал радист Островзоров, вклинившийся в их любовь. С поразительной ясностью представлялось, что она опять, как и в прошлые ночи, сидит в радиорубке и милуется с новым другом. Бородкин дрожал. Сердце накалялось. Перед глазами, налившимися кровью, рябило, значки и цифры на компасе расползались, как черные букашки. Он крепче стискивал ручки штурвала, точно душил своего соперника. Хотелось сейчас же, сию минуту, сбежать на палубу, схватить лом и, трахнув им по двери, циклоном ворваться в радиорубку.
— Вы куда держите курс? — раздался суровый голос над ухом.
Бородкин дернулся, бросил взгляд в сторону. Рядом, качаясь в темноте, выросла широкоплечая фигура первого штурмана, только что кончившего в соседней рубке записывать вахтенный журнал и пришедшего взглянуть на компас.
Послышался раздраженный крик:
— Вам, товарищ Бородкин, приказано было держать курс зюйд-ост пятьдесят семь, а вы самовольно повернули судно почти в обратную сторону! Понимаете ли вы, какому риску подвергаете пароход и весь экипаж? Это преступление! Я рапорт напишу! Вы под суд пойдете!
На баке загудел колокол. Бородкин, не слушая дальнейших слов штурмана, начал почему-то отсчитывать в уме удары склянок. С трудом сообразил, что до полуночи остается еще час. Почему же его сменили с вахты раньше времени? К рулю был поставлен матрос Гинс, вызванный наверх вместе с боцманом и проф-уполномоченным. Штурман никак не мог успокоиться и все продолжал кричать:
— А если бы тут поблизости были скалы или подводные рифы, что могло бы получиться?
К Бородкину сухо обратился профуполномоченный:
— На каком основании вы самовольно изменили курс корабля?
Виновник провел ладонью по лицу, покрывшемуся холодным и липким потом.
— Я не менял. Это так вышло.
С мостика он спускался тихо и осторожно, точно боялся оступиться.
Боцман пояснил о нем:
— Парень в большое расстройство пришел. Может много бед натворить. На судне кровью пахнет.
В радиорубке было светло. За столом, перед блестящими аппаратами, сидел радист Островзоров. На его лице, крутолобом, с коротко подстриженными усами, была уверенность в знании своего дела. Он ловил электромагнитные волны, доносившиеся до «Октября» за сотни и тысячи миль. Из массы разных сообщений, пронизывающих морские просторы, сознание отсеивало то нужное, что необходимо занести в вахтенный журнал. Тогда голова радиста, перехваченная ремнем под нижнюю челюсть, с слуховой трубкой над каждым ухом, склонялась перед раскрытой книгой.